Как образно определил ситуацию в России после Февраля английский историк Бэзил Лиддел Гарт, "Временное правительство взобралось в седло, но у него не было вожжей". Верно лишь отчасти. Все-таки поначалу у новой России была еще армия, разумеется, предельно уставшая от войны и взбудораженная Февралем. Однако новую власть армия признала, а потому была готова выполнять приказы Временного правительства. Между тем в период революционной нестабильности армия для власти — важнейший рычаг. Или вожжи, по словам английского историка.
Другое дело, что отчасти по собственной инициативе (наивно полагая, что революционный конь на волне демократического энтузиазма сам пойдет в нужном направлении), отчасти под давлением Петросовета правительство эти "вожжи" раз за разом ослабляло. До тех пор, пока не потеряло управление окончательно. Когда в октябре Керенский уехал из Зимнего дворца на фронт, чтобы повернуть армию против большевиков, он не смог найти уже ни одной верной ему части.
Приказ №1 Петросовета о создании выборных солдатских комитетов, появившийся еще в феврале, стал первым шагом к развалу Вооруженных сил. Однако в ответе за него не правительство, а Советы, то есть приказ не был легитимным. Для революции это, конечно, дело десятое, но все же у офицера хотя бы оставался аргумент, что он подчиняется не Советам, а правительству. А вот в мае армию добило уже само правительство, когда был опубликован приказ военного министра Керенского: документ, который многие в то время с пафосом называли "декларацией прав солдата".
Документ не исправлял, а, наоборот, расширял круг грубейших ошибок приказа №1, ставя окончательный крест на армейской дисциплине.
И дело не столько в том, что теперь каждый солдат сам решал, отдавать честь офицеру или нет. (На деле из употребления исчезло даже простое "здрасьте": солдат часто проходил мимо офицера как мимо пустого места.) И даже не в том, что на приказ командира солдат теперь вместо прежнего и четкого "так точно" мог расплывчато отвечать "постараюсь". Все это, конечно,армию не укрепляло, однако главная беда заключалась в другом.
Пункт второй "декларации прав солдата" гласил: "каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза". Другой пункт декларировал, что "каждый военнослужащий во внеслужебное время имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды". Наконец, приказ указывал, что "все без исключения печатные издания (периодические или непериодические) должны беспрепятственно передаваться адресатам".


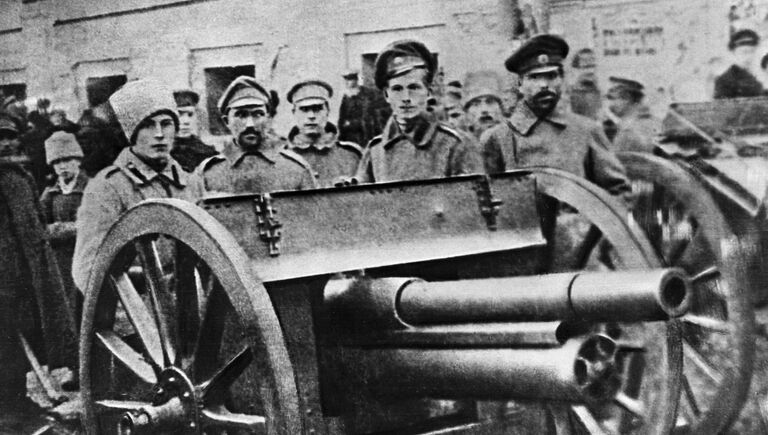









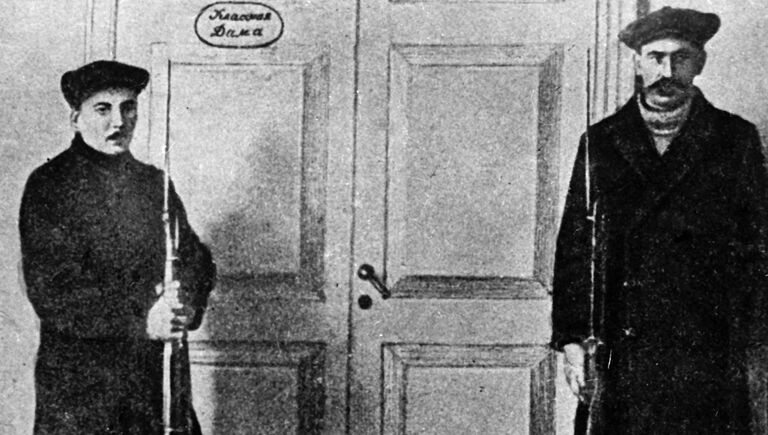
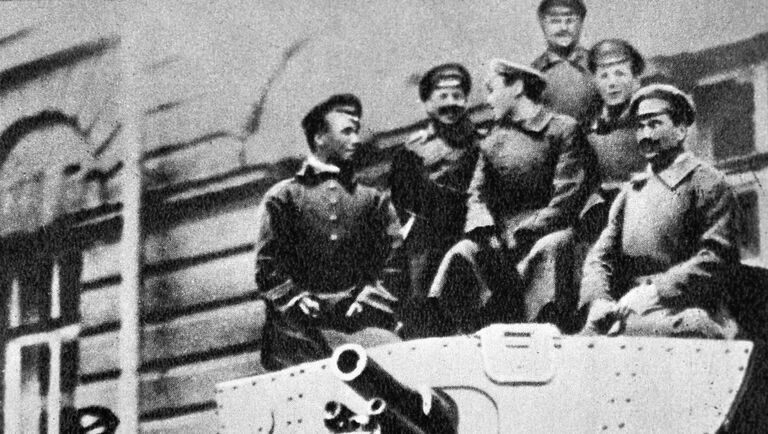





Демократическую эйфорию того периода понять можно, вот только авторы декларации не посчитали нужным учесть армейскую специфику.Армия, как единое целое, переставала существовать, превращаясь в огромное дискуссионное поле, разделенное по политическим, религиозным, социальным и прочим взглядам. Причем не стоит забывать, что яростных споров в ту пору хватало, а все оппоненты были вооружены.
Не говоря уже о том, что агитаторы радикалов, благодаря этой "декларации прав солдата", получили полную свободу действий: "прочие взгляды" позволяли вести в казарме любую пропаганду.
Бывший военный министр октябрист Гучков вышел из Временного правительства в знак протеста как раз против проекта этой "декларации", а вот новый военный министр эсер Керенский (он же член исполкома Петросовета) ее тут же подписал. И это было прямым следствием апрельского кризиса власти (спровоцированного кадетом Милюковым —"Дарданелльским"), который привел к созданию полевевшего кабинета министров.
"Пусть самые свободные армия и флот в мире, — заявлял Керенский, комментируя свой приказ, — докажут, что в свободе сила, а не слабость, пусть выкуют новую железную дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны". Демагогия, разумеется, чистой воды. Военные-практики это понимали лучше других, поэтому, узнав о проекте приказа, попытались остановить подписание декларации. Ставка разослала ее текст командующим фронтами, после чего генерал Алексеев (в ту пору Верховный главнокомандующий) вызвал их в Могилев, чтобы совместно обсудить создавшееся положение.
Мнение было общим. Как сказал генерал Брусилов: "Если ее (декларацию) объявят — нет спасения". В конце концов решили вместе немедленно ехать в Петроград, чтобы там объяснить полную неприемлемость для армии этого документа.
Вот несколько выдержек из выступлений на том совместном майском заседании генералитета, правительства и руководства Петросовета. Командующие фронтами не просто объясняли, насколько эта декларация в принципе подрывает воинскую дисциплину, но и привели множество конкретных примеров негативного воздействия на армию уже одного Приказа №1, давшего волю солдатским комитетам.
Генерал Алексей Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом: "Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Я долго убеждал полк, а когда спросил, согласны ли со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат "Мир во что бы то ни стало, долой войну!" При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: "Сказано: без аннексий, зачем же нам эта гора?" Я ответил: "Мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника".
В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей: зачем же калечиться?
Генерал Дмитрий Щербачев, командующий армиями Румынского фронта: "Я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название "железной" и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на днях в соседней стрелковой дивизии. Начатые подготовительные работы были прекращены после того, как выборными комитетами, осмотревшими этот участок, было вынесено постановление прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления".
Генерал Абрам Драгомиров, командующий армиями Северного фронта: "Одна часть отказалась идти на фронт под тем предлогом, что два года тому назад уже стояла на позиции под Пасху…При известии, что в одной из казачьих областей было наводнение, целый полк казаков потребовал отправления на родину. После переговоров удалось прийти к соглашению — отправить по два человека на взвод".
Итог выступлениям военных подвел генерал Михаил Алексеев: "Армия — организм хрупкий. В этих стенах можно говорить о чем угодно, но нужна сильная твердая власть: без нее невозможно существовать. До армии должен доходить только приказ министра и главнокомандующего, и мешать этим лицам никто не должен".
В ответ генералы получили совет искать с солдатскими комитетами общий язык. И рекомендацию: не заморачиваться, а просто выполнять распоряжения власти. А думать власть будет сама. Как сказал Керенский: "Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию, указывать ей путь дальнейшего развития".





