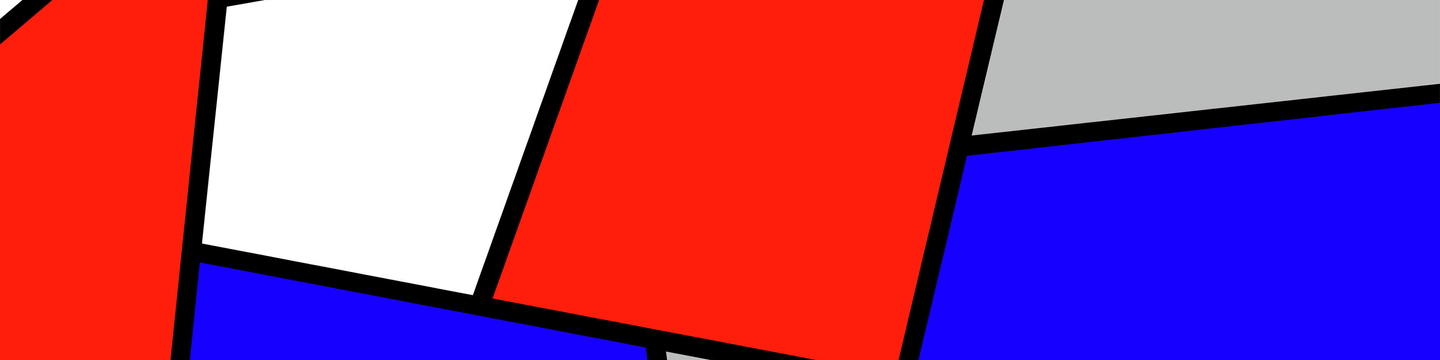Пиппо Дельбоно – известный итальянский театральный и кинорежиссер – в России уже бывал, показывал свой спектакль на Театральной олимпиаде в Москве, потом на фестивале в Перми. И вот снова – Россия: на "Балтийском доме" в Петербурге Дельбоно представил спектакль "Поле битвы", в Москве 14 октября закрыл пятый фестиваль моноспектаклей Solo своим автобиографичным высказыванием "Июньские рассказы", где выступил одновременно как режиссер, автор текста и актер. Искусство Дельбоно всегда провокативно, жестко, изобретательно в средствах выразительности. С одним из лидеров европейского театрального авангарда корреспондент РИА Новости поговорил о роли театра сегодня, о диалоге со зрителем, о частном и общественном. Беседовала Анна Банасюкевич.
- В тех спектаклях, которые в прошлые годы показывали в Москве ("Исход") и в Перми ("Дикая темнота"), был сильный социальный посыл. В "Июньских рассказах" вы сосредоточились на своем внутреннем мире?
- В этом спектакле есть много важных для меня биографических деталей, но, как говорили в 60-70-е годы - "частное и личное становится общественным". Так произошло и с моим спектаклем, важность создания которого я понял в процессе работы. Я рассказываю о личном, а рассказывать о личном всегда в определенном смысле скандально. В спектакле затрагиваются табуированные темы СПИДа, гомосексуализма, педофилии, и именно поэтому предмет разговора становится общественным, затрагивает и других людей. Больше не важна моя личная история, она встраивается в контекст истории эпохи, страны, культуры, той культуры, которая стремится замаскировать, спрятать некоторые проблемы, аспекты общественной морали. Понятно, что с одной стороны, это рассказ о личном пути, но биография становится толчком для разговора о других. Твоя собственная история приобретает ценность, когда ты рассказываешь ее зрителям, и постепенно она становится и их историей тоже. Например, в Италии мы очень много обсуждали личную жизнь Берлускони, скандалы и прочее. Все это, казалось бы, относится к частным фактам, но это имеет отношение и к общественной жизни в целом. В "Июньских рассказах" личное превращается в публичное. Сейчас мы живем в такое время, когда личное от публичного практически невозможно отделить, это проблема.
- "Июньские рассказы" - это импровизация или есть литературная основа?
- Спектакль основан на автобиографическом рассказе, который, кстати, опубликован в книге с одноименным названием во Франции и в Италии. Там много фактов из моей биографии, но, в то же время, в спектакле звучат слова поэтов, которые дают дополнительный объем, создают параллельную реальность. В спектакле есть время, отведенное для импровизации, которая требует игры в духе артистов кабаре, основывается на взаимоотношениях с публикой. Я говорю в "Июньских рассказах" на разных языках — итальянском, английском, испанском, французском. Мне жаль, что не могу говорить по-русски, я бы действительно хотел, но у меня не получается. Поэтому предпочитаю, чтобы в спектакле был синхронный перевод, чтобы было взаимопонимание с публикой, так как те отношения, которые я устанавливаю с залом – это и есть искусство импровизации. Я говорю с публикой, слушаю зрителей, смотрю на них, нахожусь с ними в постоянном взаимодействии. В итоге спектакль приобретает определенный смысл, становится чем-то вроде конференции, темой которой является любовь.
- Ваш театр специалисты обычно относят к "театру жестокости". Почему вам важно шокировать зрителя?
- Насчет жестокости, да, возможно, это - верно, нас окружает сплошная жестокость, и мы не можем не замечать этого. Часто театр, который мы в кавычках называем "традиционным, классическим", слишком искажает факты, показывает выдуманную историю. Я все же предпочитаю иметь дело с настоящим, пусть это настоящее и достаточно жестоко само по себе. По крайней мере, настоящее в Италии, насчет других стран я не могу сказать. Особенно ужасна ситуация с тюрьмами – там людей держат как животных! Во Франции та же самая проблема. Когда я снимал там фильм, мне рассказывали ужасные, жестокие истории. Но, в то же время, уже много лет я практикую буддизм, поэтому не хочу постоянно думать о жестокости и насилии. Мне хочется думать, что, несмотря на все это, всегда каким-то образом можно говорить о радости. Я считаю, что толчком к жестокости выступает окружающий нас мир. Мы не можем притворяться, что все хорошо, не можем закрывать глаза, а ведь артисты должны быть особенно чутки и внимательны к тому, что происходит вокруг. В людях всегда есть импульс к изменению, революционный дух, и, наверное, именно он находится в неразрывной связи с любовью. В своем спектакле я говорю о том, что великая революция может произойти только из-за большого чувства любви. Так говорил Че Гевара. И Че Гевара — это революционер, поднявший восстание под влиянием любви.
- Что вам важнее – острая форма, новый художественный язык или посыл?
- Важнее не то, что ты говоришь, а то, как ты это делаешь. Например, Пикассо совершил революцию в живописи посредством изменения художественного языка. В кубизме в качестве такого языка выступают структура и фигура, позволяющие увидеть какие-то новые аспекты. Возьмем фигуру женщины, которая с помощью кисти художника становится совершенно иной. Например, я смотрю на эту женщину и вижу ее в теплых мягких тонах, а кубизм позволяет мне увидеть ее беспокойную, жесткую, я вижу ее в совершенно ином свете; поэтому кубизм помогает изменить точку зрения, поймать истину. Художественный язык – вещь фундаментальная, имеющая огромную ценность. Что касается острой формы – да, я хочу потрясать публику, шокировать. Посыл – наиболее опасное слово, несущее в себе риск, поскольку в посыле уже содержится культурное, интеллектуальное знание. И я, если могу, стараюсь избежать этого. Посылы, идеи обычно глубоки, мы сами часто их не понимаем. Даже в своих спектаклях я вижу те посылы, которые я воспринял, но, к счастью, не понял. В противном случае (если мы их понимаем) такой театр становится идеологическим. Может случиться так, что ты создаешь нечто, что оказывается за пределами твоего понимания, и только потом ты способен найти заложенный в спектакле посыл.
- Театр может как-то влиять на человека, на жизнь, на политику?
- Возможно, что да. Нужно верить в утопию, быть выше чисел, выше статистики. Как сказано в буддизме – "революция одного человека может изменить судьбу всего человечества" - это важно и лежит за пределами статистики. Кстати в юности, когда я еще не решил, чем буду заниматься, я изучал экономику и статистику. Потом бросил. Прошло уже больше 50 лет. Если мы будем придерживаться только статистики, то придем в уныние; в театр и так ходит все меньше людей, а телевизор смотрит все больше. По крайней мере, такова ситуация в Италии. Но если мы поверим в тот факт, что революция одного человека, маленькой группы может изменить мир, тогда он действительно изменится. Если мы бросим в озеро маленький камушек – от него будет маленький круг, который, в свою очередь, будет вызывать все большие и большие круги. Это вопрос веры, а не надежды. Слово "надежда" вообще ошибочно, как мне кажется. Оно не настолько глубоко как "вера". Слово "вера" подразумевает более длительный период действия, как я это вижу. Извините за экономические понятия и термины.
- По вашему мнению, русская публика, привыкшая к традициям классического театра, готова к восприятию импровизаций в ваших спектаклях, и как к ним относятся в Европе?
- Вообще, я очень много работаю в Италии, Франции, Испании, Бельгии и могу сказать, что, конечно, каждая публика уникальна. Понятно, что каждый раз я вижу абсолютно разный взгляд зрителя, но, тем не менее, взгляд заинтересованный, сильный. Я думаю, что если человек любит классический театр, он любит и Чехова, и Пиранделло. В определенный момент все может стать классикой, как, например, произошло с музыкальной оперой. Она явилась великим изобретением в своем время, а сейчас уже стала традицией. Но искусство не консервативно, искусство революционно. Мы сами становимся консерваторами – хотим сохранять, а не двигаться вперед. Что и случилось в моей стране – мы сохранили великую красоту, но оказались неспособны изобрести что-то еще. У нас великое кино, великая культура, великая музыка, но сейчас в итоге остается только телевидение. Поэтому консервативная позиция, мне кажется, крайне опасна. Да, нужно сохранять определенные достижения, но нужно и менять что-то, революционизировать.