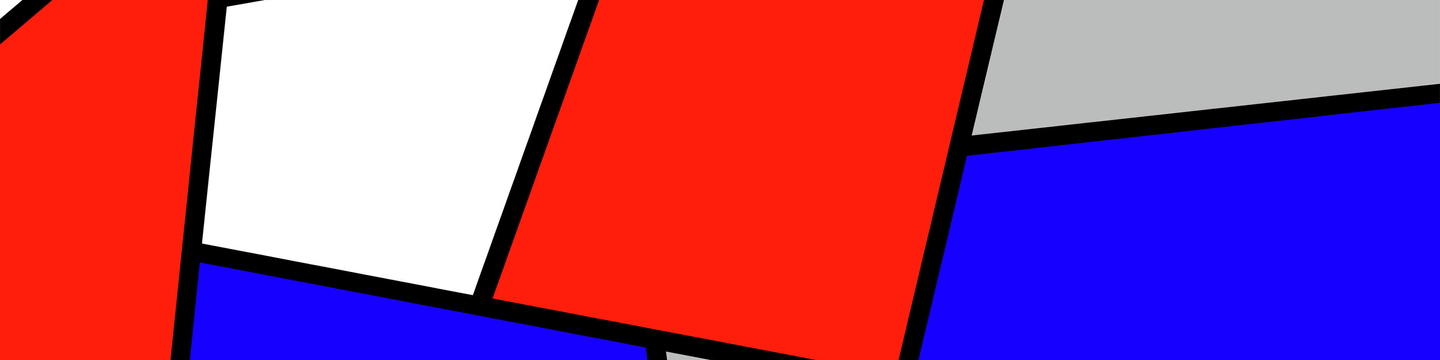Телевидение часто раздражает, но иногда оно, все-таки, нам, штирлицам, суперагентам, работающим, бог знает, на какую разведку, дает информацию к размышлению. Как правило, в тех случаях, когда страна, ее общественность отмечают круглую дату со дня рождения Мастера. А тут мы подошли сразу к двум юбилейным рубежам: 80-летие покойного актера и режиссера Олега Ефремова и 90-летие здравствующего Юрия Любимова, режиссера и актера.
Чем хороши такие праздники. Не только тем, что мы получаем возможность хором и в розницу выразить почтение и признательность людям, которые на том или ином историческом витке были для нас светом в окошке.
Главное, мы получаем возможность узнать о них по более того, что уже знаем, услышать их самих и увидеть себя, свои иллюзии, свои обольщения в зеркале тех драм, трагедий и комедий, что они создали в театре и кино, и что сопутствовали им в жизни.
Телевидение на сей раз оказалось необыкновенно щедрым. О Ефремове на Первом канале представил свое эссе Леонид Парфенов «Вечный Олег». «Культура» показала малоизвестный фильм «Мнимый больной» с Ефремовым в главной роли. Там же - программа о его творчестве «Хроники смутного времени». Были еще фильмы с его участием, передачи с воспоминаниями о нем.
И Любимова ТВ не обошло пристальным и пристрастным вниманием. Документальная лента на Первом - «Моя Таганка». «Линия жизни» на «Культуре». На ней же - давний телеспектакль «Всего несколько слов честь г-на Де Мольера», который теперь воспринимается как спектакль в честь господина Юрия Любимова.
Само собой получилось, что в эфире соткался двойной портрет в интерьере эпохи. Или: парный конферанс в представлении, которое дала и продолжает давать нам История.
Оба «конферансье», в сущности, очень разные. И по-разному у них сложились биографии в искусстве. Но родились они в одной стране - в Союзе Со... и т.д. Республик.
Любимов явился на свет на 10 лет раньше. Он видел, как сам признался, Ленина в гробу. И не только в переносном смысле. Он хоронил Сталина. Ему привелось нести гроб с телом Высоцкого.
Первые двое похорон стали похоронами во славу и во здравие Советской власти. Третьи - за упокой ее.
Прощание с Высоцким вылилось в демонстрацию протеста против нее. Нечаянную, непроизвольную, но совершенно естественную.
Любимов сызмала мечтал о театре и об актерстве.
Ефремов заглянул в театральное училище не по зову свыше, а так... за компанию с приятелем и стал тем, кем он стал - «лидером театральной среды» по собственному определению.
Такой простой, такой прямой судьба может быть только тогда, когда оглядываешься на нее издали, или вглядываешься в нее с очень большой высоты. Из самолета все дороги кажутся прочерченными либо по линейке, либо по лекалу. С высоты жизнь смотрится правильно-геометричной. Внизу она - лес, за которым не видно горизонта.
Если спуститься с неба на землю, то, как не заметить, что жизненные дороги обоих мастеров сильно петляли.
Любимов успел «засветиться», как сегодня принято выражаться, в так называемом лакировочном кинематографе - в фильме «Кубанские казаки». В театре (Вахтанговском) у него все хорошо складывалось. И к тому же ему дали возможность заняться преподавательской работой.
Ефремов объявился на всесоюзном экране уже в пору оттепельного кинематографа - см. «Первый эшелон». После окончания Школы студии МХАТ его не взяли в штат главного театра страны, но позволили работать со студентами.
И оба мастера в разное время создали в сотрудничестве со своими учениками по театру. Один назвался «Современником», другой, «Театром на Таганке».
Театры Ефремова и Любимова были созданы, надо честно признать, при попустительстве советской идеологической бюрократии. Если бы она могла предвидеть дальнейшие сложности и трудности...
Едва театры, ведомые новыми режиссерами обрели почву под ногами, коей следует считать шквальный зрительский интерес, как у них начались «стилистические разногласия с советской властью» (выражение Андрея Синявского). Даже в тех случаях, когда для них не было оснований с точки зрения идейной направленности.
Ну, нечего было возразить советским функционерам с позиции правоверного марксизма ни против «Десяти дней, которые потрясли мир», ни против «Большевиков». Тем не менее, сколько было проблем с выходом на публику того и другого спектаклей.
При всем несходстве эстетических манер Любимова и Ефремова их объединяло то, что они были скованы одной цепью - Советской властью. Рвали они ее каждый по-своему.
...В советское время театр для кого-то был схимой. Для кого-то - праздником. Для кого-то - амвоном, кафедрой, с коих можно было проповедовать. Для кого-то он мог стать эстетической лабораторией.
Люди шли в театр, потому что бежали от жизни. И те, кто его делали. И те, кто его потребляли.
Ефремов чувствовал и сознавал себя наследником и продолжателем учения Станиславского. Ему нравилось выражение Станиславского о театре - «оглушающая правда». Потому как ему, Ефремову, мало было на сцене одной достоверности, ему требовалась достоверность чрезвычайная. И театр здесь был уже не более, чем метафорой, иносказанием. На самом-то деле мастера не удовлетворяла степень достоверности самой жизненной среды, жизненной материи. Ему в самой жизни не доставало правды, глубины, естественности. Ему в жизни нечего было делать со своей собственной убедительностью. Потому и пришел в театр.
Возможно, это ключ к пониманию реформаторского подвига и самого Станиславского. Он не театральную систему обновлял. Он обновлял саму реальность. Не в социально-политическом смысле, разумеется, а в смысле элементарно этическом. Глубокая, то есть глубинная жизнь на сцене противостояла плоской, одномерной жизни в жизни.
Его знаменитое и истовое «Не верю!» в сущности было адресовано не актеру, что-то изображающему, а самой действительности, что являлась жалким неуклюжим подражанием томившей его «ошеломляющей правды».
Станиславский не верил той действительности, что была за пределами его МХТ на рубеже веков.
Ефремов не верил действительности советской. Он много пытал и испытывал ее саму и ее догматы на достоверность, на всамделишность. А она была скверным учеником, хронически не успевавшим по всем предметам. Он ей ставил зачеты, на что-то надеясь. Или уже ни на что не надеясь. Он за нее отвечал, он ее придумывал в своих спектаклях про сталеваров, партийных работников, про интеллигентного Ильича и его интеллигентных соратников.
Шестидесятничество героически строило замки на фундаменте из надежд и иллюзий.
Известный театровед Анатолий Смелянский вспомнил о разговоре Ефремова с Горбачевым, случившемся на заре перестройки. Горбачев в тот момент себя чувствовал соратником театрального демиурга. Тогда казалось, ну вот подошло время реализовать гуманный проект социализма с человеческим лицом, поставить невиданный доселе Спектакль. Генсек - в роли прораба. Шестидесятники в роли зодчих, подбадривая его, предвкушают реализацию своих замыслов, коим, увы, не суждено было сбыться.
Замыслы оказались недостаточно достоверными. Как и жизнь.
Перестроечник Горбачев по сию пору живет с сознанием, что проект был правильный, да воплотить в жизнь ему помешали.
Ефремов себе этой иллюзии не позволил.
Не зрители не поверили. Жизнь не поверила.
Так, как планировалось в спектакле «Большевики», а затем и в спектакле «Так победим», не вышло. Так не победили.
Он вернулся в классику, туда, где жизнь достовернее всего. И глубже, и совестливее, и честнее.
Любимов поначалу взбунтовался не против советской Системы, а против системы театральной имени Станиславского, которая имела в нашем отечестве почти такой же статус, как учение Ленина.
Именно Система Станиславского была для него, в первую очередь, оковами, веригами. Потому от театра переживания имени Чехова обратился к театру представления имени Брехта. Его бунт с самого начала приобрел характер сугубо эстетический. Но понят и воспринят был и публикой и идеологическими вертухаями как политический. И видимо, не случайно. Советский режим в 70-х - 80-х годах все более осознавался как нечто несовместимое не просто со свободной жизнью, но и со всякой живой жизнью вообще.
Любимов не захотел остаться пленником (хотя бы и почетным) у остановившегося Времени. Он покинул страну и вернулся в нее, когда оно снова пошло.
Когда оно снова затикало, многие творческие шестидесятники, оставшись наедине с реальностью, рынком, с публикой обнаружили, что им особенно нечего сказать.
Сегодня иные из них говорят: "Тогда я писал, снимал, ставил то, что хотел".
Драма и травма тех мастеров состоит в том, что их художественные "хотения" были по преимуществу коротенькими, узенькими - школа конформизма разъедала талантливого человека изнутри.
Теперь выяснилось, что несвобода сплачивала и вдохновляла людей свободных профессий, а свобода - это сплошные обязательства. Перед историей и самим собой.
Золотая рыбка, послужившая на посылках у владычицы морской, предпочитает пучине аквариум.
Любимовский спектакль «Добрый человек из Сезуана» - притча на все времена. Она о раздвоенном сознании и двуличии всего Сущего. В том числе и Добра. В том числе и Зла.
Ля комедия еще не финита, судя по новому спектаклю Юрия Любимова «Горе от ума. Горе уму. Горе ума».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции