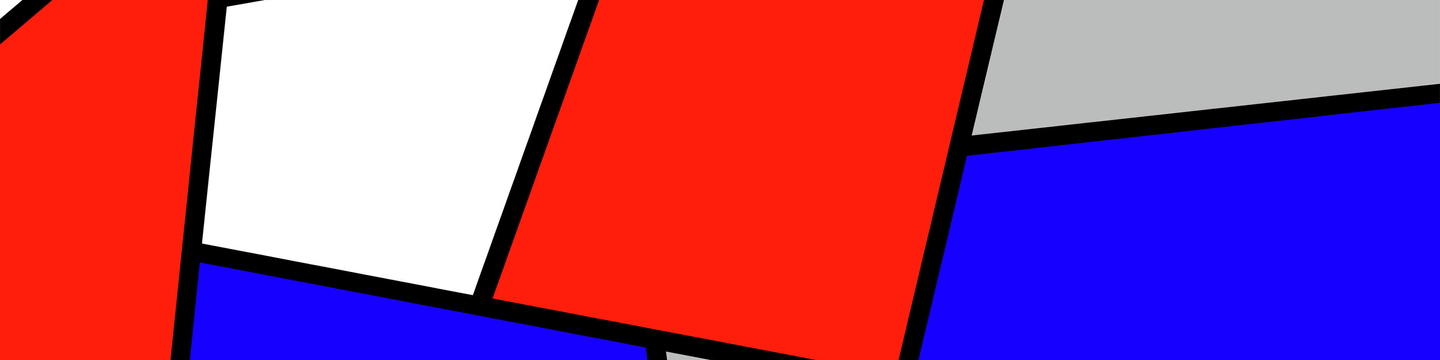В эту пятницу в московском кинотеатре "Пионер" у зрителей будет редкая возможность увидеть фильм Владислава Мамышева-Монро "Волга-Волга", римейка одноименного культового советского фильма. Поводов сходить в кино сразу несколько: конечно, трагическая гибель самого художника в марте этого года – в таком случае показ "Волги-Волги" можно считать чем-то вроде поминок по Монро; тем более, что на показе будут режиссеры картины Павел Лабазов и Андрей Сильвестров, которые наверняка что-то про него скажут. Вторая памятная дата более торжественная: 75 лет назад, 24 апреля 1938 года, на экраны вышел оригинальный фильм Александрова, который на долгое время, пожалуй, вплоть до самого Гайдая, стал советской комедией №1.
Главная интрига фильма Александрова в том, что эта всенародно любимая и действительно удачная комедия, как это часто бывает, только внешне может считаться незамысловатым смеховым кино: одна дата выхода фильма на экраны уже наводит на мрачные мысли. Об этом не один раз писали киноведы, и лучше всех – Римгайла Салис в недавней книге, посвященной музыкальным комедиям Александрова, которая так и называется "Нам уже не до смеха".
Салис подробно описывает обстановку, в которой снималась эта легкомысленная и жизнеутверждающая картина. О том, как не до смеха было оператору Александрова Владимиру Нильсену, который в разгар работы был отстранен от фильма, арестован и вскоре расстрелян. О том, как режиссер ездил к сценаристу картины Николаю Эрдману, к тому времени только что вернувшемуся из сибирской ссылки и все еще пораженному в правах, и убеждал того, что в титрах любимого фильма Сталина не может быть его фамилии. О том, как на "Волгу-Волгу" повлияли мультики про Микки-Мауса, расистские шутки и комедии братьев Маркс. И о том, как в первоначальных вариантах сценария Александров не упустил случая толкнуть сильно пошатнувшихся Мейерхольда (того вскорости расстреляют) и Довженко (он выплывет).
Чем глубже закапываешься в анализ этого фильма, тем больше смыслов – и, в конечном счете, гениальности обнаруживается во внешне дурацкой и ернической "Волге-Волге" 2006 года с Мамышевым-Монро. Авторы римейка, сократив и переозвучив картину Александрова, а главное – заменив Любовь Орлову на загримированного под нее Монро, – довели до предела глубинную логику оригинала и создали сверх-фильм, который только по недоразумению не был толком оценен.
Хотя ленту неплохо приняли в Роттердаме, и даже наградили премией Кандинского в России, но это едва ли сильно увеличило ее аудиторию. В целом, о ней многие слышали, но вряд ли многие смотрели – а между тем она производит очень сильное впечатление.
Чего точно нет в римейке Лабазова и Сильвестрова – это издевательства над "классикой", в котором при желании можно заподозрить фильм. Наоборот, авторы во всем продолжают смысловые линии фильма, в том числе и советскую традицию истязания киноматериала, которое в случае "Волги-Волги", не закончилось одним перекраиванием сценария: изъятие отдельных сцен картины продолжалось вплоть до 1960-х годов.
В то же время, Лабазов и Сильвестров пророчески предвосхищают наступившую в конце нулевых истерию коммерческих римейков советского кино и его бессмысленного раскрашивания. С этой точки зрения колоризация фильма Александрова в 2010 году логична и даже оправдана: она показывает вторичность и беспомощность индустрии по отношению к спонтанным художественным проектам.
Логика оригинала продолжается и на бессознательном уровне, который у обоих фильмов очень глубок. Не случайно на московской премьере "Волги-Волги" духовный отец картины Борис Юхананов говорил о тревожной инфернальности и мрачной чертовщине, притаившейся в каждом кадре оригинала "Волги-Волги".
Начало таким трактовкам положил сам Александров, который в свое время жаловался на "гипнотическое влияние" расстрелянного Нильсена, которым оправдываются некоторые идеологические просчеты любимого фильма Сталина. Да и в заглавной песне картины есть красноречивые строчки: Мы сдвигаем и горы и реки// Время сказок пришло наяву.
"Волгу-Волгу" 1938 года действительно можно воспринимать как вариант русской сказки про везучего дурачка (вернее, дурочку Дуню Петрову), который попадает в столицу и там благодаря своей находчивости и наивности срывает банк. Но это, опять же, только формальный уровень.
На самом деле, после внимательного пересмотра оригинальной "Волги-Волги", становится ясно, что, во-первых, это настоящая народная, а не литературно обработанная сказка – то есть жестокая история без хэппи-энда, что вполне соответствует ситуации 1930-х годов. Во-вторых, герой этого фильма вовсе не Стрелка, а сам Бывалов – персонаж, больше всех прочих похожий на человека, а не на гогочущую и кривляющуюся нечистую силу. И наконец, в жанровом плане фильм Александрова – это хоррор, история о том, как страшно жить в счастливой советской стране, может быть даже предупреждение всем зрителям, хотя вряд ли сознательное.
С точки зрения сюжета весь фильм строится как череда кошмаров, которые переживает герой на пути к цели своего путешествия, то есть к Москве. Каждую минуту его третируют нахальные и напористые существа, постоянно меняющие образ при помощи переодеваний, грима, пантомимы и т.д.
Сперва письмоносица исполняет перед ним лезгинку и читает строки из "Демона" – что тоже можно считать за намек: "Я тот, кого никто не любит" – декламирует она, лукаво посматривая на Бывалова.
Затем официант в кафе вместо того, чтобы дать человеку напиться, исполняет гимн советскому пищепрому на мотив арии Ленского из "Евгения Онегина", а повара, корча рожи и размахивая огромными ножами, недвусмысленно наступают на Бывалова.
Хулиганство не останавливает и милиционер – он тоже в сговоре. По его сигналу начинается "Свистопляска" – инфернальная сцена демонстрации талантов Мелководска, в которой Бывалова поочередно оглушают, ловят в рыболовные сети, сбивают с толку акробатикой, душат, заставляют испытать неподдельный ужас и доводят буквально до животного исступления, когда он лакает из корыта. В конце концов, он вынужден согласиться на то, чтобы вывезти демонов Мелководска в Москву.
Столица, которая в целом выглядит как осуществленный земной рай и идеологически противостоит дремучей темноте остальной страны, тоже не приносит Бывалову успокоения. Московские небожители сперва обнадеживают его, поощряя за якобы им написанную песню, затем заставляют вытерпеть унижение и признаться в творческой импотенции, путают, множат количество истинных авторов ("дунь", что, кроме имени героини, еще и реальное прозвище Исаака Дунаевского) и, в конце концов, изгоняют из своего мира.
В самом конце фильма мучители Бывалова – все эти кошмарные "дяди Кузи" и "тети Паши" механически кланяются и, как и положено нечисти, растворяются в воздухе.
Подстановка вместо Орловой Мамышева-Монро заостряет и усиливает макабрическую суть фильма. Трудно не заметить, что голова письмоносицы, которая все так же разговаривает, поет, целуется, как и положено по сценарию, чужеродна по отношению к телу. Она непропорциональна, неповоротлива и в то же время способна принимать совершенно неестественные для живого существа положения. Другими словами, Стрелка становится похожа на жертву чудовищного, но удачного сталинского эксперимента по пересадке мужской головы женщине. Фильм приобретает даже какую-то буддийскую ноту, вполне органичную постмодернистскому эксперименту: сострадание вызывает не только герой Ильинского, который пытается противопоставить темным силам свою бюрократическую непробиваемость, но и сам демон с чужой головой, который так же мучается, запертый в чужом теле, как и его жертва.
Бывалого, как и полагается по законам жанра, черти ловят, отыскивая в нем человеческое, а значит уязвимое – в его случае это самолюбие; он попадается на предложение выдать себя за автора песни про Волгу. Это естественный исход любых контактов с нечистью, о чем мы помним по опыту Хомы Брута, и героев фильмов "Сердце ангела" или "Плетеный человек".
Но Стрелка-Монро римейка перестает быть искусителем, и, как лермонтовский Демон, только тоскует на фоне галлюциногенных пингвинов и нескладно поет стремительно теряющую пафос и торжественность песню. По постсоветской либеральной логике Лабазова и Сильвестрова, она как часть дьявольской свиты так же одурачена и лишена воли и смысла существования, как и ее жертвы.
Торжествует в фильме с Монро только чистое абсолютное зло, символизирующее государство, по отношению к которому, как известно, художник был очень критично настроен.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции