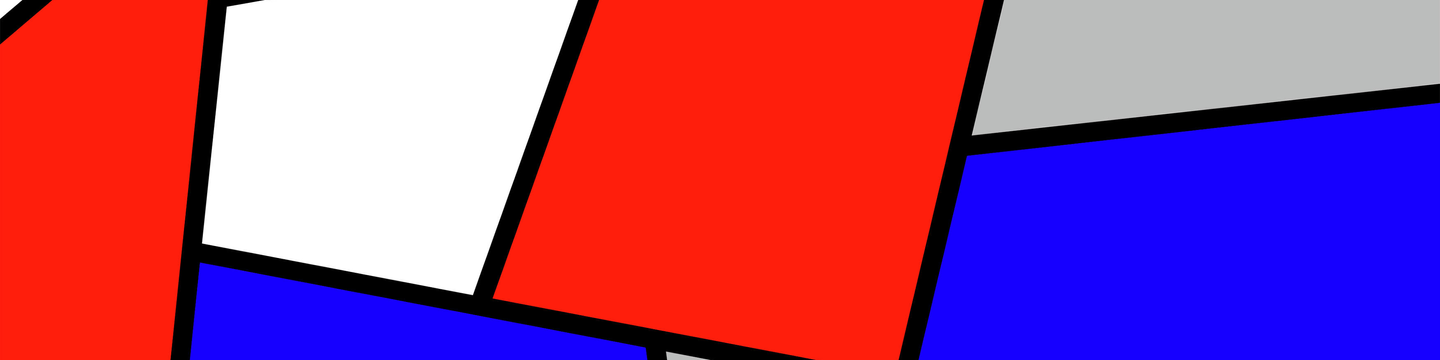В конце недели, 2 и 3 февраля, в театральной Москве ожидается долгожданное событие – открытие "Гоголь-центра". После нескольких нервных месяцев – скандалов, митингов, ремонта, верстки репертуара — бывший Театр имени Гоголя в новом качестве отметит начало своей жизни уникальным действом, совместным спектаклем тех, кто станет постоянными резидентами нового Центра. "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова, "Диалог Данс" из Костромы, SounDrama Владимира Панкова и актеры труппы (Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Олег Гущин, Александр Мезенцев и другие) представят свои мини-спектакли, которые будут объединены в постановку под символическим названием "00:00". О том, чем должен заниматься современный театр, в чем "Гоголь-центр" будет отличаться от других сценических площадок Москвы и что происходит с профессиональным сообществом сегодня, с художественным руководителем Центра Кириллом Серебренниковым беседовала корреспондент РИА Новости Анна Банасюкевич.
- Почему вы решили ввязаться в эту, как оказалось, рискованную затею?
— Мы так долго говорили о том, что наше поколение обделено возможностями сделать в искусстве то, что оно хочет, что когда мне это предложение было сделано, я подумал – как-то уж совсем непорядочно сказать "нет". Тем более, что появилась возможность сделать практически с нуля тот проект, который хотелось.
- Но у вас была "Платформа", на которой вы были свободны в своих проектах…
— "Платформа" — это свободная площадка, но это не театр. Там нет ни репертуара, ни всей инфраструктуры, это экспериментальная территория, связанная с мультикультурными проектами. А здесь театр, с репертуаром.
- Руководство государственным театром накладывает какие-то обязанности по заполняемости зала — придется идти на компромиссы. Вас это не смущает?
— Да, но к этому нужно стремиться везде, и на "Платформе" тоже. Плохо, когда зал не заполнен. Будем пытаться понять, где грань между возможностью заняться чистым искусством и необходимостью заполнять кресла. Будем пробовать как-то балансировать.
- Но работать на публику — это значит идти на художественный компромисс?
— Ну почему же? Я никогда не давал слова заниматься исключительно жестким экспериментом. Для эксперимента должна быть площадка, но здесь задача посложнее — сделать театр живым. Хотя и внутри него должна быть зона для эксперимента.
- Эксперимент в государственном театре — это всегда малая сцена. Вы готовы большую сцену отдавать под эксперимент?
— Да, мне всегда казалось неправильным отсутствие, допустим, современной пьесы на большой сцене. Это странная позиция – то есть мы, вроде, занимаемся современной драматургией, но почему-то держим ее в подвале на 100 мест. Давайте попробуем сделать так, чтобы на современную пьесу пошли люди! В связи с этим мы затеяли трилогию по киносценариям, которые будут переписаны нашими любимыми драматургами Любовью Стрижак, Валерием Печейкиным и Михаилом Дурненковым. Надо постепенно воспитывать зрителя. Конечно, должны быть театры, куда люди идут и четко понимают, что они соглашаются на очень комфортное времяпрепровождение, на встречу с классикой, на старый добрый театр с кулисами, историческими платьями и красивой музыкой. А когда они будут ходить к нам, они будут знать, что подписываются на что-то другое: на современную режиссуру, на новую драматургию, на какую-то острую, провокативную фактуру, на развлечение другого рода.
- Вы готовы к тому, что сначала залы могут быть неполными?
— Мы готовы. Может быть все, что угодно, — мы начинаем с нуля. Здесь не было того, что нужно для функционирования современного, достаточно крупного театра. Нужно заново создавать пиар-службу, налаживать распространение билетов, обновлять звук, свет, цеха. Но когда ты входишь в такую историю, ее и надо начинать заново, с обнуления. Экивоки в отношении прошлого хороши, но как сказал Някрошюс, — традицию надо ощущать как эхо.
- Сейчас, когда стало понятно, что даже в театре, а не только в бизнесе или политике, небезопасно, у вас руки не опускаются?
— Меня не это волнует, мне вообще не хочется про это говорить. Сегодня необходимо отстаивать тот театр, который для меня важен, важно защищать определенные принципы в искусстве. Театр — инструмент, остро реагирующий на все: на потерю свободы в обществе, на секвестирование демократии, на запретительные законы, которые сейчас выходят в большом количестве. Театр очень чутко реагирует на все проблемы социального устройства, на изменившееся психическое состояние людей. Театр — вещь хрупкая, и очень больно наблюдать, как из него вымываются те сущностные вещи, ради которых он устроен. Театр для меня – это, с одной стороны, всегда размышление про смысл жизни, с другой, это место, где люди встречаются с искусством, с эстетикой. С помощью театра общество проговаривает свои проблемы, болезни, изживает комплексы. Если этого нет, то вообще для чего это нужно? Для коммерческой выгоды? Нелепо.
- Такой театр сейчас есть в России?
— Он должен быть. Если его нет, тогда не надо говорить про традицию. Если почитать классиков, великих режиссеров, мастеров, то поражаешься тому, как глубоко они размышляли о природе театра, об актере. Это тот дискурс, который мы потеряли. Мы перестали решать в спектаклях вопросы космического значения, а перешли к коммунальным разборкам. По-моему, то, что происходит в театральном сообществе сегодня, — это позор.
- Вы пригласили в театр в качестве резидентов, помимо "Седьмой студии", SounDrama Панкова и "Диалог Данс" из Костромы. Все они яркие, известные, но очень разные. Не боитесь такой мозаики?
— Это неплохо. Потом, это не такая уж разношерстная компания: это люди одного поколения. Как раньше говорили — "мы читаем одни и те же толстые журналы". Мы находимся в общей среде, мы друг друга понимаем. Здорово, что репертуар будет разным, что здесь не будет некоего "монорежиссерья". Это уже здесь было, ни к чему хорошему не привело.
- Но есть все же какая-то общая художественная идеология? Есть, кого вы сюда не пустите?
— Я не хочу жить запретительными мерами. То, что мы не пустим сюда, к нам и не придет. Мы будем стараться не делать того, что возможно в других театрах. Конечно, будут и исключения. Понятно, что "Гамлета" можно поставить в другом театре, но так, как это сделает у нас Давид Бобе и его команда, так больше никто не сделает. Не потому что это хороший спектакль, а в других театрах плохие, а потому, что это уникальный проект по технологии, по решению. Мы поставим мюзикл Spring Awakening ("Пробуждение весны") по знаменитой пьесе Ведекинда. Сейчас многие хотят делать мюзиклы, но этот никто не решится поставить. Мы будем много работать с киносценариями — и с советскими и с зарубежными.
- А вы уверены, что государство вас поддержит?
— Если нет, то я найду частные деньги. Надежду дает то, что департамент (культуры Москвы – прим. ред.) сказал, что будет судить по тем задачам, которые театр сам ставит перед собой. Если театр говорит — мы хотим делать массовый коммерческий репертуар, тогда с него спрашивают: где массы? Если мы говорим, что мы — зона риска, зона уникальных решений, то мы должны это доказать. А не ставить Рея Куни.
- Почему в театре так медленно происходит смена поколений?
— Эта смена везде происходит сложно — и в политике, например. В России это происходит так болезненно, потому что страна не развивалась нормально, а все какими-то скачками – то оттепель, то заморозки. Кровь, страх, застой, войны, лишения, кровь, застой… Людская порода подверглась сильному испытанию вплоть до уничтожения. Надежда Мандельштам после ссылки вернулась в Москву и, глядя на лица людей на эскалаторе в метро, не смогла сдержаться: "Боже! Что они с людьми сделали! Это же не лица, это рожи!" Самые медленные изменения — изменения с человеком, в голове человека. Поэтому иногда важно формулировать внятные условия игры, вводить законы. Но не драконовские, а дельные, полезные. Я вот думаю, что если в Германии не было бы закона о сменяемости управления, то условный немец тоже сказал бы — хочу до 100 лет сидеть в своем кресле. Но у них действуют законы, и в Берлине, допустим, люди, начиная, кажется, с 60 лет, выводятся за штат. Они могут работать по контракту, но в штате не могут.
- У нас бы сказали, что это фашизм…
— Да, сказали бы, потому что у нас смехотворные пенсии, на это жить нельзя и люди вынуждены работать.
Наша театральная система, которая не реформировалась с советских времен, столкнулась с вопросом, что делать с невостребованными артистами. У нас их изрядное перепроизводство — каждый год в Москве выпускается 300, а то и 500 человек актеров, а труппы сверстаны. Но так все устроено, что, если уменьшается количество студентов, возникает проблема с преподавателями, чья зарплата от этого зависит, и так далее. Это целый комплекс вопросов, просто их никто раньше не решал. Вообще наш случай — это первая попытка серьезного реформирования театрального организма. И Сергей Капков уникален тем, что на это решился. Департамент упрекали в поспешности и неловкости, но эта неловкость от того, что нет поведенческой схемы, а хозяйство запущено до предела, и действовать надо незамедлительно, иначе все совсем развалится. Любые умозрительные соображения не всегда срабатывают, потому что есть человеческий фактор. Никто, например, не знал, что в театре Гоголя есть ячейка КПРФ и они будут провоцировать конфликт. Никто не хотел делать зла, обижать людей. Но я и представить себе не мог некоторых ситуаций, которые тут возникали. Например, мы не можем уволить главную художницу театра и ее дочь — это семья бывшего худрука. Нет никаких механизмов. А сами они увольняться не хотят. Ничего не бывает вечно, но театр с советских времен привык к этой безразмерности времени, люди привыкли путать государственную собственность со своей.
Я не считаю правильным выкидывать людей на улицу. Надо серьезно думать, что с этими людьми делать, предусмотреть какие-то гарантии, выплаты. Ведь когда перейдут на контракты, а это уже точно случится, куда эта орава не очень хороших артистов денется? Надо придумать какие-то схемы перепрофилирования, допустим.
- Как вам работается с артистами театра Гоголя? Как вы находите общий язык?
— Интересно. Мы осторожно друг к другу движемся, стараемся друг друга понять. Вижу, как приходит на репетиции та же "Седьмая студия", как ребята слушают, как они начинают общаться с взрослыми актерами, друг друга поддерживать, — это невероятно трогательно. Приходят молодые режиссеры, сидят на репетициях. И — знаете что?— на многих актеров труппы уже очередь.
- Вам не кажется, что помимо актерских бунтов существует раскол и в профессиональном сообществе и в российском обществе в целом?
— Россия очень раздроблена, и все делается для того, чтобы этот процесс продолжался, чтобы разлом был больше. Когда люди разделены, когда они вцепляются друг другу в горло, удобно быть над схваткой и заниматься своими делами. Это выгодно: разделяй и властвуй. Например, сейчас, как будто, нам всем нечего делать, кроме как обсуждать гомофобские законы, других проблем нет.
Остервенелость людей — от слепоты, от нежелания сесть и подумать. То, как люди театральные друг на друга набрасываются, как пишут доносы, как полны злобы к своим коллегам — ужасает… Ну, хорошо, мы друг друга поубиваем, и что — всем станет лучше? Просто не будет Театра. Я считаю ту ненависть, с которой театральные люди набрасываются на тот тип театра, который они не понимают и не любят, фашизмом. Это такой культурный фашизм. Это как ненавидеть человека по расовым признакам. "Мне не нравится твой театр, и я тебя ненавижу, чтоб ты сдох, гори в аду!" Откуда все это? Они же говорят, что любят русскую литературу, но она полна гуманизма. Они же все за систему Станиславского, но он написал книгу по Этике Театра, которую они, видимо, так и не прочли. Мне их логика, их остервенелость, их злоба неясны. Мелкие они какие-то. По мне — пусть будет разное, всем хватит места. Важно понять — есть вещи, которые крупнее нас, наших амбиций. Я очень уважительно отношусь к нашим великим старикам, которые ходят к властям и говорят — нельзя театр убивать, нельзя лишать субсидий. Они защищают Театр. Как только их не станет, кто пойдет к этим людям, кого эти люди послушают? Тогда мы будем обречены на коммерческий театр, будем ставить смешные веселые комедии, будем подъедать крошки со столов Медичи разных мастей.
- Вы полтора года занимались Станиславским, репетируя юбилейный спектакль в МХТ. Что-то поменялось в вашем представлении об этом человеке?
— Главный урок, который я вынес из этой работы – не про нюансы ремесла, не про детали системы, а про отношение к делу, к искусству. Его отношение к Театру, лишенное всякого цинизма, его вера в Театр — это и есть настоящая позиция художника. Сейчас у нас нет позиции, есть какие-то местечки, пригорки, бугорки. Занял бугорок и сидишь на нем. Построил свою синекуру и следишь, чтобы никто на твою территорию ни ногой. Есть ощущение, что тогда они — Станиславский и другие мастера — видели даже больше того Театра, который могли делать сами. Они видели большие смыслы! Как будто они видели горы, а у нас тут гор не видно — какой-то туман, смог. Важно видеть вершины, чтобы знать, что там где-то есть чистые снега. Это позволяет понимать, что ты занимаешься не ерундой какой-то, а Искусством. У нас сегодня нет ни одного человека, кроме Анатолия Васильева, который бы осмысленно занимался театром как наукой, исследовал бы его язык, его возможности. И это ненормально. Мы должны понимать, что есть эти горные вершины. У нас, может быть, не хватит сил, мышц, мы туда не пойдем, мы будем здесь, но как важно знать, что где-то там высоко это есть. Потому что однажды один из нас все-таки решится на подъем.
- Станиславский, окруженный всегда огромным количеством людей и учеников, в вашем спектакле кажется очень одиноким…
— Видимо, так и было… Наверное, это вообще участь творческих людей, вечное публичное одиночество. Ты всегда думаешь, что вы все вместе, что эти люди, с которыми ты работаешь, они тебя понимают, а они тебя, может, и не понимают… Но об этом лучше не думать. Как говорил один очень хороший, но преданный в России анафеме писатель: "Делай, что должно, и пусть будет, что будет!"