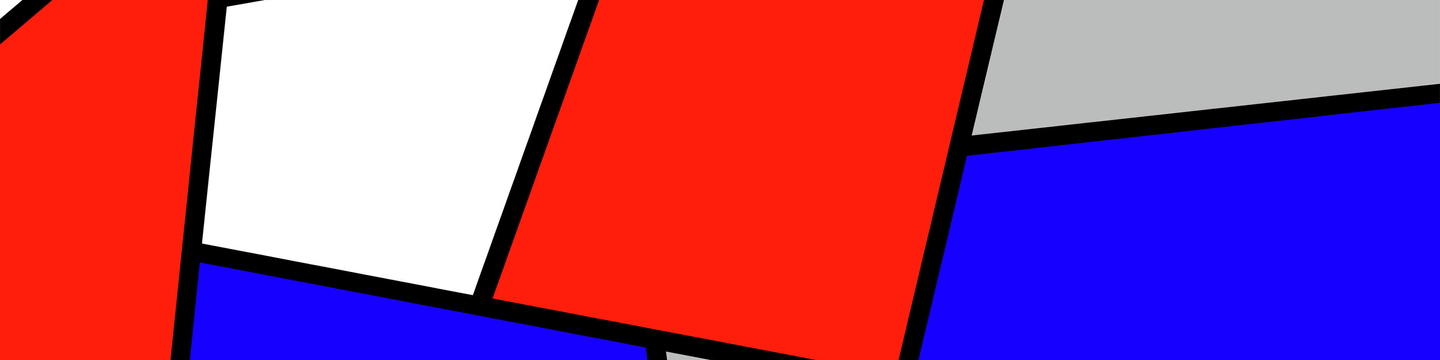Семьдесят лет назад, находясь в эвакуации в Елабуге, покончила с собой Марина Цветаева. Она всегда настаивала, чтобы ее профессию не обозначали в женском роде: "Не поэтесса! Поэт!" Но погибла она очень по-женски - от "нелюбви", затопившей тогда наш мир. И от множества других начинающихся на "не" слов - непонимания, ненависти, непризнанности...
Неизвестна ее могила, не суждено было выжить ее сыну и мужу. Так много бед на букву "н", что даже страшный НКВД теряется в этой толпе горестей.
Наверное, это было бы проще всего - обвинить во всем НКВД, да и успокоиться, зачислив Марину в жертвы режима. Основания для такого взгляда есть: еще двумя годами раньше, в 1939 году, была арестована дочь Цветаевой Ариадна Эфрон (Аля), в тюрьме у нее пытками вырвали показания на отца. Ну а отец, сотрудничавший с советской разведкой Маринин муж Сергей Эфрон, был арестован в октябре того же 1939 года и сошел с ума после допросов на Лубянке. Марина переживет его всего на две недели…
И все-таки не один НКВД виноват. На момент своей гибели Марина не знала, что муж погиб. Зато она знала, что Аля жива, отбывает заключение на севере. Надежда отправлять Але передачи, а также тревога за неприспособленного ни к трудовой жизни, ни тем более к войне юного сына должны были заставить 49-летнюю женщину собраться с силами и жить. Не для мертвых - для живых. (Сын погибнет на фронте в 1944 году.)
Так отчего же выбор смерти вслед за Маяковским и Есениным? Не только от НКВД и не только от усталости. Это Цветаева-то устала?! Внемлите, любители пожаловаться на дороговизну бензина, слушайте ее "Оду пешему ходу":
Где предел для резины -
Там простор для ноги.
Не хватает бензину?
Вздоху - хватит в груди!
Нищета, болезнь? Марина упоминает о болезни в предсмертном письме сыну Муру ("Я тяжело больна, это - уже не я"). Но она всю жизнь мужественно переносила боль и голод, родила троих детей, работала как вол (до вмятины в груди от письменного стола, по собственному метафорическому выражению). И разве может быть слабым поэт, написавший такое:
Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет мелкой
Миска - плоской. Через край - и мимо -
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
Про нищету и говорить смешно. Не впервой ей было считать картошки. Перед самым самоубийством она собиралась идти на работу судомойкой - она, неразгаданная тема сотен диссертаций, переведшая стихи Пушкина на французский язык так, что они вошли в классику ФРАНЦУЗСКОЙ поэзии. "Обеим бабкам я вышла внучка - чернорабочий и белоручка"… В эмиграции снижали квартплату за мытье полов - так она мыла полы в целом доме. И в эмиграции, и после возвращения в Россию в сороковом году ей часто было негде жить - так она пишет оду бедному дому:
Не рассевшийся сиднем,
И не пахнущий сдобным,
За который не стыдно
Перед злым и бездомным:
Не стыдятся же башен
Птицы - ночь переспав.
Дом, который не страшен
В час народных расправ!
В эмиграции это воспринималось почти как аксиома: когда в Россию вернется нормальная жизнь, урок "народных расправ" 1917-1919 годов пойдет впрок - состоятельные россияне больше никогда не будут кичиться особняками и отгораживаться кирпичными заборами. Но не прошло и века, а все забылось…
Так отчего же погибла Цветаева? Не столько от НКВД, сколько от другого "н" - от непонимания. И непонимание это продолжается - не столько с ней, сколько в целом с литературой и, больше того, с человеком в сегодняшнем мире. Сергея Эфрона погубило сотрудничество за границей с бериевским ведомством. Помогала ему, судя по всему, и Аля - естественно, втайне от матери. Почему они оба не послушали Марину - вернее, ее стихи? Ведь в этих стихах - проклятие насилию, несвободе, двуличию, манипулированию человеком. Словом - всему, чем занимались подручные Берии под прикрытием социалистических идеалов. Марина не разбиралась в политике, но она кое-что знала о человеке, а в основе политики - человек. А Сергей и Аля думали, что разбираются в жизни лучше нее - экзальтированной, впечатлительной, все превращающей в притчи и метафоры. Лучше бы они ее послушали:
"Я защищала право человека на уединение - не в комнате, для писательской работы, а - в мире. И с этого места не сойду… Я вправе, живя раз и час, не знать, что такое колхозы, так же как колхозы не знают, что такое - я. Равенство - так равенство" (из письма Борису Пастернаку).
Право человека на уединение… Разве его у нас стало больше теперь - в век телевидения, социальных сетей и мобильных телефонов? Может быть, это счастье, что она не дожила до всех этих технических новшеств - на фоне происходивших в Европе событий ей и собственных ушей и глаз было слишком много:
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один - отказ.
У людей становится все больше средств коммуникации и все меньше - самой коммуникации. А Цветаева так не могла - формально, двумя словами, массовой рассылкой. Ей нужен был полный контакт - и в любви, и в поэзии.
Всей Савойей и всем Пьемонтом,
И - немножко хребет надломя -
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым - и руками двумя.
Партийному "хозяину Ленинграда" Жданову показалось, что Ахматова мечется между молельней и будуаром. Критик из знаменитого советского издания "На посту" Радов предвосхитил идеи шефа, озаглавив свою статью о Цветаевой в том же духе на десять лет раньше - "Грешница на исповеди у госиздата".
Да, она любила. А разве это не важнейшее право человека - любить? И почему в этом праве отказывают кому-либо - хоть бы и женщине за тридцать пять? Многое изменилось в России, а этот отказ остался, по крайней мере - для многих.
Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
Буду грешить - как грешу - как грешила: со страстью!
Господом данными мне чувствами - всеми пятью!
Жданову показалось, что вышеописанный грех происходил между молельней и будуаром. Узнай он больше - упал бы в обморок: Марина вообще любила людей - тысячи, миллионы. И не как он - на словах, а на деле. Можно часами разглагольствовать об "империалистической войне", а можно несколькими словами сказать все, как она умела:
Вещи бедных - проще и суше.
Проще лыка, суше коряг.
Вещи бедных попросту - души.
Оттого так часто горят.
Добавим из дня сегодняшнего - может быть, нам не хватает именно таких ходатаев за бедных? Не тех, что пишут на сотни страниц отчеты, "фиксируют ущерб" и готовят иски, а - чувствующих, со-чувствующих? И может быть лучше любых дежурных призывов к толерантности - ее короткий стих, обращенный к "отцам" - вершителям настоящей культурной революции "серебряного века", упредившей Октябрьскую:
Только душу и спасшим
Из фамильных богатств,
- Современникам старшим -
Вам, без равенств и братств -
Руку веры и дружбы,
Как кавказец - кувшин
С виноградным! - врагу же -
Две протягивавшим!
И взамен за все это - глухое непонимание, непризнание, в конце концов убившее ее. Убившее постепенно - сначала во Франции, потом в России. Вытягивание грошовых гонораров из редакций (впрочем, в переводе на нынешние авторские расценки тогдашние литературные "барыши" - просто огромны), отказы газет печатать ее статьи…
Для ее гениальных французских переводов Пушкина во всей французской и советской печати не нашлось и одной свободной странички. Перевод пушкинского стихотворения "Заклинание" напечатали во французском издании журнала "Советская женщина" аж в 1979 году! Весь тридцатилетний литературный труд Марины Ивановны не принес ее детям и копейки - были только бесконечные хлопоты с вывозом чемоданов с драгоценными рукописными листочками из Франции в СССР. Листочками, оплаченными той самой вмятиной в груди от письменного стола… А разве сейчас ситуация у девяноста процентов писателей лучше?!
Лучший памятник поэту - чтение его стихов. С Цветаевой эта формула требует дополнения - нужно читать стихи и других хороших поэтов, наших современников, особенно молодых. Ведь девяносто процентов "романов" Марины - это были влюбленности в юных рифмоплетов, часто ограничивавшиеся письмами: на стихи она откликалась "всей собой", по собственному выражению.
Во имя погибшей 70 лет назад - поддержите живых! Она сама так завещала, когда оплакивала погибшего поэта Николая Гронского:
Не ты - не ты, не ты - не ты.
Что бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, -
Бог - слишком Бог, червь - слишком червь.
* * *
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции