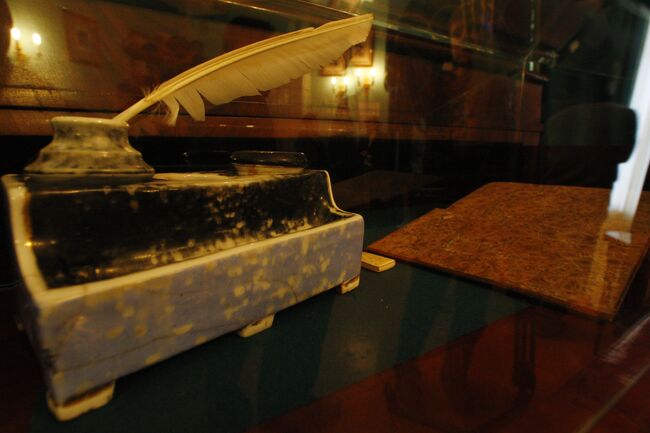Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости.
Этот человек, по словам Пушкина, «принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством».
2 марта исполнилось 210 лет Евгению Боратынскому (в начале ХIХ века и в советское время фамилия писалась через «а» - С.В.), чей поэтический и прозаический дар, несмотря на несомненный талант, так и не стал столь же любимым и узнаваемым публикой, как более именитые коллеги его поколения.
Этому можно найти свое объяснение. Будучи рано сложившимся поэтом, получившим в юности блестящее и всестороннее образование, Боратынский был человеком скромным до застенчивости, вовсе не жаждавшим, как иные, выносить свое творчество на суд толпы. Когда его друг, Антон Дельвиг впервые напечатал без ведома автора одно из его произведений, Боратынский, мягко говоря, не испытал чувства восторга. Несмотря на то, что современники весьма ценили его талант, сам поэт относился к себе достаточно критически:
«Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я».
Неудивительно, что широкий читатель получил доступ к его стихам и прозе через много лет после его смерти, в 1869 и 1884 гг., когда все его сочинения были изданы.
Рискну предположить, что отстраненность выходца из старинного польского рода от бурных событий своей эпохи, стремление к подчеркнуто частной жизни без внешних потрясений, во многом стало результатом потрясений юности. Я имею в виду раннюю смерть отца и скандал, который разразился после того, как 15-летний подросток был исключен с товарищем из пажеского корпуса за кражу. Эта шалость (я далек от мысли, что он был клептоманом) дорого стоила сыну генерала и фрейлины. Боратынский позднее признавался, что «сто раз был готов лишить себя жизни».
Дело дошло до самого Александра I, который воспретил двум шалопаям всякую дальнейшую государственную службу. Впрочем, оставалась одна лазейка – можно было стать офицерами. Но сначала несколько лет послужив в солдатах.
Судя по всему, этот проступок преследовал Боратынского всю жизнь, наложив на него своего рода «каинову печать». И хотя, «солдатчина» не была для него в полной мере настоящей боевой службой (как впоследствии для Лермонтова на Кавказе), она вызвала немало насмешек со стороны литературных недоброжелателей и была для молодого поэта, видимо, тем же, чем для Пушкина малозначительный титул камер-юнкера.
Жуковский, хлопоча о нем, писал, что Боратынский «жертва ребяческого проступка, имеет дарование прекрасное; оно раскрывалось в несчастье, но несчастье может и угасить его; если судьба бедного поэта не облегчится, то он сам никогда не сделается тем, для чего создан природой».
Его лучший друг Николай Путята набросал его портрет той поры: «Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние».
Сказалась на характере и последующем творчестве и своего рода ссылка в Финляндию, где Боратынский служил унтер-офицером. Впрочем, по окончании службы он тепло вспоминал об этом мрачном крае, где он с одной стороны пережил сильное страстное чувство к Закревской, жене тамошнего генерал-губернатора, а с другой получил новую поэтическую «подзарядку».
«Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?»
Надо сказать, что Боратынский, пусть и стараниями друзей весной 1825 года получил чин прапорщика, то есть, стал офицером. Как бы доказав себе, что он преодолел вето императора, он вышел в отставку, женился и посвятил себя литературе и частной жизни. Попытка послужить статским чиновником (в Межевой канцелярии) – не в счет. Нет, Боратынский не был человеком нелюдимым, сторонящимся общества. Скорее, он был интровертом, как назвали бы его сейчас.
«Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые;
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!»
Отец Пушкина, Сергей Львович так отзывался в письме о Боратынском: «Не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую: встают в семь утра во всякое время года, отходят ко сну в девять часов вечера, и никогда не выступают из этой рамки...».
Другим «недостатком», по мнению современников, был его весьма глубокий и проницательный ум, который слишком глубок для занятий лишь поэзией. В частности, Боратынский явил недюжинные архитектурные способности, обустраивая усадьбу Мураново, в которой он поселился после женитьбы на дочери генерала Энгельгардта. Сгоревший в 2006 году в Мураново элегантный деревянный дом с кирпичными вставками, был построен в 1840-42 гг. по его плану и под непосредственным руководством.
«Я помню ясный чистый пруд;
Под сению берез ветвистых.
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкий,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!»
Некоторые считают, что Боратынскому не повезло с эпохой. Мол, его глубокий, но неброский талант был заслонен более яркими собратьями по перу. В первую очередь, «солнцем русской поэзии» в лице Александра Сергеевича.
Доля правды в этом есть, поскольку, как справедливо заметил однажды Валерий Брюсов, язык Боратынского не прост, временами высокопарен, он любит странные выражения, охотно употребляет славянизмы и неологизмы в архаическом духе и о значении иных выражений приходится догадываться. Однако, по мнению Брюсова, если постичь этот, условно говоря, шифр, то «открывается меткость его выражений, точность его эпитетов, энергия его сжатых фраз». Вяземский сравнивал Боратынского с родником, который надо буравить, чтобы «добыть из него чистую и светлую струю».
Впрочем, тот или иной поэтический строй во многом проистекает из характера художника. Несмотря на неоднократное признание его таланта Пушкиным, который утверждал, что его коллегу не ценят, сам Боратынский был достаточно равнодушен к внешнему успеху, больше довольствуясь признанием своего дарования со стороны дружеского круга, нежели незнакомого читателя.
Однажды его всерьез обидела статья Белинского, который счел, что «величайший недостаток поэзии Боратынского проистекает от «ложной мысли», от «черного демона», внушающего поэту рассмотреть «жизнь как добычу смерти, разум как врага чувства, истину, как губителя счастья». Отдавая дань мастерству поэта («какие чудные, гармонические стихи»), критик пришел к выводу, что это бесполезный дар.
Разделим обиду поэта и согласимся, что Виссарион Григорьевич – абсолютно не прав. Просто он не расшифровал код Боратынского.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции