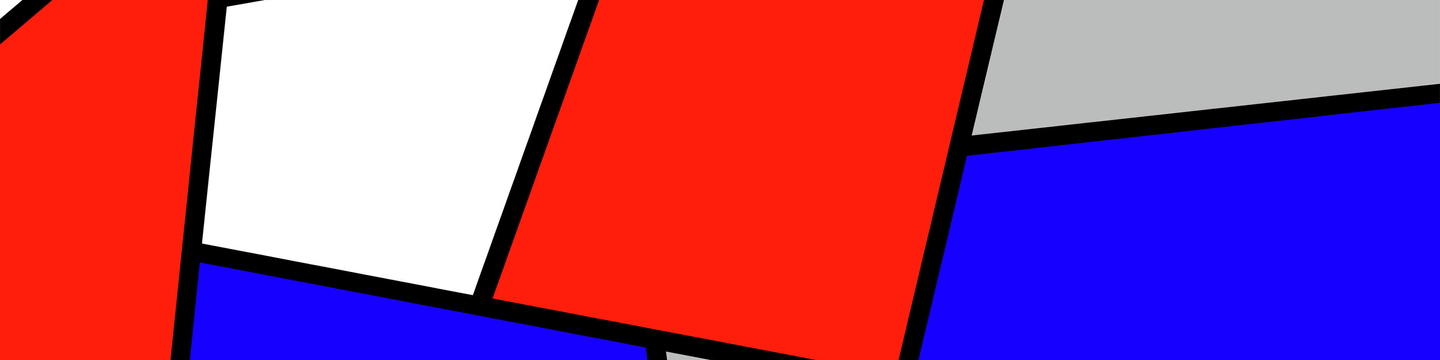Анатолий Королев, обозреватель РИА Новости.
Формулу искусства раскрыл еще Аристотель в классических работах «Поэтика» и «Политика», и звучит она так - суть воздействия искусства на человека в достижении катарсиса, особого этического состояния, при котором происходит освобождение духа от зла, очищение души через страх и сострадание от низменных страстей.
Спустя две тысячи лет нашелся писатель, который обвинил влияние искусства на человека во всех смертных грехах, и сделал все возможное для того, чтобы читатель не достиг состояния катарсиса.
Его имя Варлам Шаламов.
Этот максимализм стал итогом искалеченной жизни писателя, который 17 лет провел в сталинских лагерях. Молодой идеалист, московский студент юридического факультета принялся на свой страх и риск печатать в подпольной типографии в 1929 году «завещание Ленина», письмо в котором вождь предупреждал об опасности Сталина. Эта акция протеста обошлась Шаламову очень дорого.
Столетний юбилей писателя Шаламова (1907 - 1982) поставил перед участниками Международной конференции в Москве нелёгкий вопрос. Раз Шаламов пришел к глубокому убеждению, что писательство, как форма существования искусства невозможна и аморальна, раз роман это преступление против совести, раз великая русская литература виновна в том, что в ХХ веке Россия попала под иго большевизма и стала жертвой исключительного террора, то по каким критериям оценивать его собственное творчество? Ведь отрицая литературу, он все же написал свои знаменитые «Колымские рассказы», обозначив свой труд как некую «антилитературу», а жанр романа «Вишера» обозначил как «антироман».
Разобраться в этом феномене, и попытались философы, литературоведы и критики, которые накануне столетия Шаламова собрались в Москве, в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье» из Европы, США и даже из Австралии.
Организатор конференции, публикатор творческого наследия Шаламова, и его друг Ирина Сиротинская в своем слове о Шаламове подчеркнула особую поведенческую природу писателя, который дошел в своем максимализме до самого края. Он, например, даже не признал факт своего освобождения реальным событием. Он продолжал, осознано жить как зек, подчеркивая, что нет никакой разницы в СССР, жить в зоне или в Москве.
Например, он обучал Сиротинскую приемам лагерной каторги, учил, как правильно толкать тачку на земляных работах. Он был уверен, что этот опыт в советском отечестве нужен всем, тем более женщине, иначе не выжить.
Это этическое упрямство Шаламова отмечал раньше и другой писатель, который тоже сидел, Олег Волков: «В комнате коммунальной московской квартиры Шаламов выглядел зеком, привыкшим к алюминиевой кружке и миске, нарезанным на столе ломтям хлеба, который он ел, держа кусок в одной руке, а другую, подставляя горстью, чтобы не ронять крошек. В комнате было голо, хозяин не хотел заботиться о комфорте, чай разливал в кружки, сахар доставал из кулька. Неприхотливая меблировка - деревянная кровать, аккуратно застеленная, стол и тройка стульев составляли все убранство комнаты. На единственном столе, за которым мы чаевничали, стояла сверкающая чистотой новенькая пишущая машинка».
Итак, Шаламов жил так, чтобы не обронить ни крошки из своих воспоминаний. Но прошлое бывший зек понимал как беспросветное абсолютное зло, в котором не было ни грана хорошего.
Отмечая эту особенность писателя, гость конференции руководитель ФАКК Михаил Швыдкой, акцентировал вопрос на «светлом прошлом». Что же все-таки надо помнить? Выбирать ли в памяти только лучшее, юное, солнечное, или все-таки помнить всё. Помнить, как бы это ни было больно?
Шаламов и тут доходил до крайности. Он предлагал помнить только плохое, а хорошее наоборот забывать, иначе лагерь можно высветлить, а зло приуменьшить.
В связи с этим тезисом Шаламова «не украшать», на конференции несколько раз вспоминали один и тот же характерный эпизод. Прочитав книгу Солженицына «Один день Ивана Денисовича», Шаламов позвонил автору, похвалил текст и заметил, Александр Исаевич, там у вас описана кошка в лагере. Это неправда. Ее бы съели...
В этой детали, как в капле воды виден метод Шаламова: не описывать, не творить, не подыскивать образы и детали, не искать выразительный слог, а наоборот свести участие творчества к минимуму, не писать, а давать показания перед Судом вечности, отвечать читателю языком протокола допросов, сухо и страшно, кратко и скупо.
В своем докладе о творческом методе писателя французский прозаик и переводчица Люба Юргенсон (Urgenson) продемонстрировала высокому собранию, какими удивительными приемами оперировал Шаламов. Например, избегая малейшей литературности, он описывает не действие, а ситуацию. У рассказа нет ни традиционного начала, ни развязки, ни тем более нравственной высшей точки переживания, катарсиса. Только перечень состояний. Этот метод фиксаций можно сравнить, пожалуй, с отдачей дактилоскопических отпечатков пальцев, где истина в степени идентичности, где важно не то, что ты написал, а то, что написанное принадлежит только тебе одному и ты готов понести ответственность за то, что высказал на бумаге вплоть до расстрела.
Рука писателя отморожена и не чувствует боли (красоты).
Катарсис как цель искусства отвергнута.
Мощно прозвучало в зале конференции слово философа Григория Померанца. Главной темой он выбрал вопрос о тотальной люмпенизации современного общества, победу языка и идеологии блатных. Блатной мир был кристаллизован в лагерях и стал особой системой ценностных ориентиров. Государством в государстве. На его взгляд, блатные пустили мощные корни в российской жизни и это расплата за сталинские преступления, закономерное эхо террора.
Но лично для меня настоящим открытием стало выступление филолога Валерия Петроченкова из США. Он говорил об отношениях между Шаламовым отцом и сыном. Отец Шаламова - Тихон был священником, миссионером, известной фигурой русского общества, однако его сын не стал верующим. Почему? Оказывается потому, что отец был не столько священником, сколько прогрессистом, он подчеркивал важность религии и церкви не в жизни души, а в жизни общества. Отец напирал на терапевтический эффект религии. Бог был на втором месте после воспитания масс. Кроме того, отец модничал своей позицией. Это оттолкнуло Шаламова от веры, и привело к угрюмому отрицанию отца. Он никогда не простил ему этого парадоксального дарвинизма от Христа, даже возненавидел отца, хотя тот в конце жизни ослеп и мальчик водил слепца за руку в храм.
Вот, на мой взгляд, где корень отношения Шаламова к русской литературе он не простил нашим классиком азарта социальной терапии, увлечения проповедью, культом образцового Христа (как ступеньки к культу великого Сталина). Под гневные крики пророков и удары бича, с точки зрения Шаламова, русский народ отогнали от водопоя (крестьянской общины), и как стадо загнали в зимние лагеря на перековку.
Вывод Шаламова беспощаден - нельзя писать, так как писали прежде, нельзя уповать на искусство как на средство очищения души, этот путь ложный. История Гулага доказала неправоту Аристотеля, катарсис - не очищает, вслед за Дидро Шаламов усомнился в том, что искусство полезно для нравственности, нет оно - бесполезно! Задача истинной прозы вообще не писать, а только свидетельствовать. «Каждый мой рассказ - это окрашенный душой и кровью мемуарный документ».
Что ж, пожалуй, Шаламов единственный писатель ХХ века, который буквально воплотил знаменитую формулу философа Теодора Адорно о том, что после Освенцима никакая поэзия в принципе уже невозможна.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции