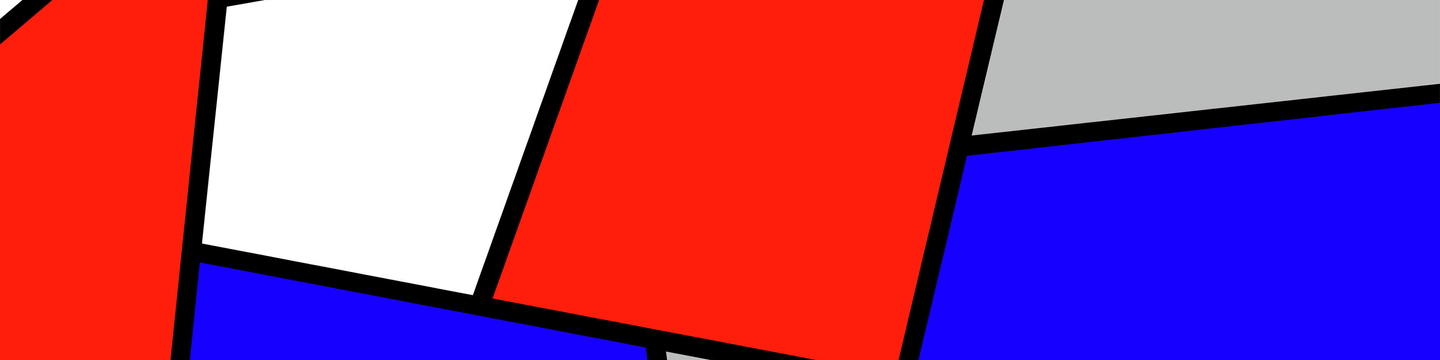Обозреватель РИА-Новости Анатолий Королев.
150-летие со дня основания Третьяковской галереи - хороший повод сказать о том, что принцип организации пространства, положенный в основу московской галереи и других подобных музеев живописи давно являет собой исторический анахронизм.
Что положено в основу подобной анфилады?
Косточкой, из которой выросло дерево современных галерей - это парадное собрание портретов королевских особ. Из числа первых это собрание в испанском Эскориале и французском Лувре, каковой был именно королевским дворцом. Сюда можно добавить еще и римское собрание в папских дворцах Ватикана. Именно здесь был впервые опробован принцип собрания: к религиозных полотнам из жизни Христа, и портретам понтификов было добавлено собрание античной скульптуры.
Все такого рода собрания были закрытыми для посторонних, и прошло не меньше 200 лет, чтобы к середине 18 века часть королевских собраний стала доступна для широкой публики. Буржуазная эпоха стала первой эпохой, когда восторжествовала идея галереи и музея открытого для широкой публики и научных экспозиций. В Европе, в Америке и, наконец, в России появились сначала десятки, а теперь уже сотни галерей. Если сюда добавить частные собрания, то счет пойдет на тысячи.
Однако практически принцип подачи искусства не изменился.
Зритель чинно следует из зала в зал, от одной исторической эпохи в другую, оглядывая многотысячное собрание картин. Надо ли говорить, что это тяжелое путешествие, что уже через пару часов внимание ослабевает и возникает психологическая усталость. В наши дни (вместе с фондами) Третьяковская галерея насчитывает более 50000 произведений искусства! Побывав один раз в галерее, обычный зритель больше в галерею ни ногой.
Сегодня, в дни юбилея Третьяковки, социологи установили, что примерно 85% москвичей никогда не были в Третьяковке. Этот прискорбный факт одновременно сопровождает так называемый «бум выставок»; в дни специальных показов в той же Третьяковке на выставке Энди Уорхолла или в музее Гуггенхайма на выставке «Россия», в Лондонской национальной галерее, где проходит выставка в честь 400-летия Рембрандта, народу полным полно.
Как раз в эти дни, в филиале Третьяковки на Крымской набережной, на выставку картин из парижского музея Орсе люди стоят в очереди не меньше двух часов, так что галерее пришлось продлить часы работы до 10 вечера.
Первым проблему усталости зрителя решил архитектор музея современного искусства имени Гуггенхайма в Нью-Йорке Райт Фрэнк Ллойд. Те, кто побывал там, знают, что публика сначала поднимается лифтами на верхний этаж - тут начало экспозиции - после чего начинает спускаться по широкому пандусу только вниз, без единой ступеньки, вдоль стен, где скупо, с широкими пробелами развешаны полотна. Обилие закусочных и миниатюрные летние сады то и дело перебивают монотонное пространство, радуя глаз и желудок, позволяя свести к минимуму гнет прекрасного.
Еще более удачным стал центр Жоржа Помпиду в Париже архитектора Ричарда Роджерса. Это, по сути, завод по производству культуры. Здесь в огромном пространстве на нескольких этажах привольно раскинулись галереи, кинозалы, дешевые закусочные и элитный ресторан на крыше, компьютерные залы, магазины канцтоваров, залы для фитнеса, библиотеки, видеотеки и прочее, прочее. Здесь молодежь Парижа проводит целые дни в атмосфере комфортного знания и одновременно живого досуга.
Каким устаревшим выглядит на этом фоне наша прославленная Третьяковка, как измучены и зареваны дети, которых мамаши тащат за руку вдоль бесконечного Репина-Шишкина-Крамского-Айвазовского-Левитана. Причем научный подход в организации экспозиции решительно подавляет интересы публики, которая, смири гордыню эстет! - несется только от одного шедевра к другому. И я соглашусь с этой рысью. Например, в зале, где во всю стену висит гениальное полотно А.А. Иванова «Явление Христа народу», не нужна вся прочая научная оснастка работы над картиной, даже гениальный этюд головы Иоанна Крестителя (который вышел лучше чем на полотне) не нужен, вся эта масса подробностей и прочего нижнего белья великой картины просто на просто мешает.
Лувр в прошлом году сдался перед натиском туристов и сделал отдельный вход для «Моны Лизы». Терпеть шумную километровую очередь идущую по галерее Denon, через десять залов итальянской живописи только к одной-единственной картине больше не было сил.
Этот принцип надо применить и к Третьяковке, ее нужно разделить по крайней мере на три музея: галерею шедевров, галерею имен, и научную экспозицию. Галерея имен уже частично создана, это самые лучшие залы Третьяковки. Лучший - зал Врубеля, где в тишине и пустоте, залитая естественным светом, идущим через стеклянную крышу, высится великий шедевр Врубеля: грандиозное панно «Принцесса Греза». Ее окружает скромная свита из нескольких полотен: «Сирень», «Пан», «Царевна-лебедь».
Но для Новой Третьяковки потребуется совершенно другое здание, которое по своей эффективности должно быть не хуже и Центра Помпиду и музея Гуггенхайма, который уже строит новое здание по проекту архитектора Фрэнка Гэри, потому что прежнее здание устарело.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции