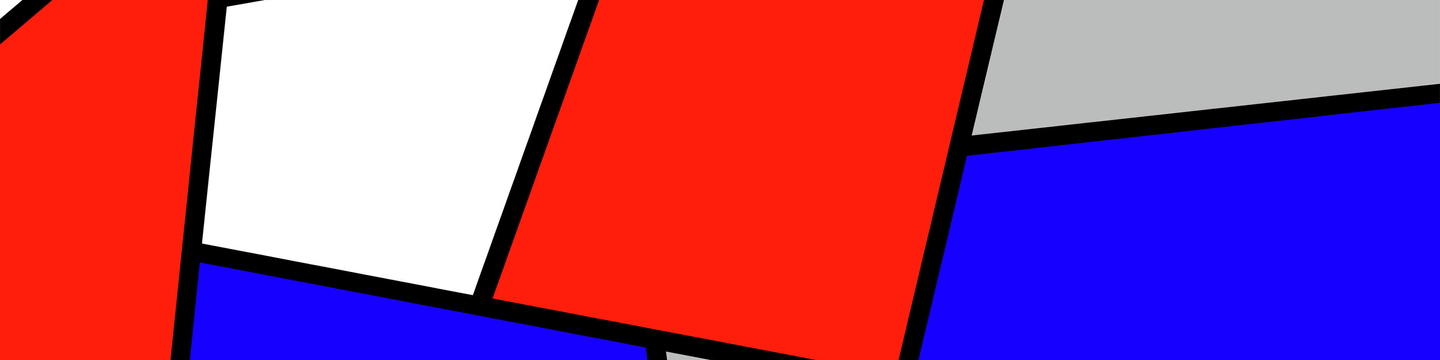Ровно 40 лет назад режиссер Марк Захаров был назначен художественным руководителем театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"), который он не только вытащил из небытия, но и сделал одним из самых успешных в России. Накануне такого значимого события в жизни мастера он дал интервью РИА Новости и рассказал о том, какую роль в его судьбе сыграл Валентин Плучек, что помогло сделать "Ленком" популярным и какой спектакль заставил плакать Михаила Суслова, а также поделился мнением о судьбе репертуарного театра и о контрактной системе для актеров. Беседовала Наталия Курова.
- По первоначальной своей профессии вы — артист и какое-то время после института играли в театре. Как возникла режиссура, ставшая делом всей жизни?
— Театральная режиссура — выбор точный, но сформировался он в какой-то степени случайно. После вуза по распределению я работал актером в Пермском театре два с половиной года. И однажды подошел ко мне ведущий артист Виктор Чекмарев, который вел драмкружок в Пермском университете и предложил поучаствовать. Я решил попробовать, хотя у меня не было какой-то программы, нацеленной на режиссуру, на руководство. Признаюсь, что еще когда учился в Москве, я ощущал себя человеком второго эшелона и у меня не было необходимых лидерских качеств, недостаточно воли. И вот город Пермь мне подарил преображение. Вначале — в студенческом коллективе Пермского университета, где я поставил несколько спектаклей и понял, что это какая-то стихия, где я чувствую себя по-другому, чем актер, что меня слушаются, что я пользуюсь авторитетом, который постепенно возрастал. И вернувшись в Москву, решил направить в эту сторону все свои усилия. Сначала я был в драматическом коллективе станкоинструментального института, потом перешел с группой его участников на Моховую в студенческий театр МГУ, основанный Роланом Быковым, который возглавлял тогда Сергей Юткевич. Вот там мои истоки режиссерские, та энергия студенческая, тот юношеский максимализм, о котором я потом долго рассуждал и соображал, что это такое. Такой особый период в жизни человека, когда он побуждается к активным действиям и именно тогда происходят революции, заключаются браки на небесах, рождаются дети, самые хорошие стихи. Я связываю это со студенческой средой, от которой очень много получил.
- А первой профессиональной сценой для вас, как режиссера, стал театр Сатиры?
— Да, когда, к моему удивлению, Валентин Плучек пригласил меня в театр Сатиры в качестве актера, сказав, что заодно будешь и режиссурой заниматься, я принял очень важное решение. Внутренний голос мне подсказал, что ни в коем случае мне не надо соединять режиссуру с актерством. Я был согласен на любую черновую режиссерскую работу. Сначала репетировал малоинтересные пьесы, а потом Плучек предложил поставить какое-нибудь классическое произведение с крепкой драматургией. Завлит принесла мне две пьесы Островского — "Горячее сердце" и "Доходное место", и я выбрал второе. Это было для меня судьбоносное решение — мне удалось сделать очень хороший спектакль. В главной роли Жадова выступил Миронов, блистательно играл Белогубова Пороховщиков. Хотя сначала Плучек сказал, что у Миронова нет положительного обаяния — пусть он играет отрицательную роль, а положительную Пороховщиков. Я все-таки сделал по-своему. И после "Доходного места" Миронов стал главным артистом театра и сыграл много замечательных ролей. А я стал известным режиссером в черте Садового кольца.
- Вспоминая ваши непростые режиссерские годы в Сатире — запрет "Доходного места" и "Банкета", как Вы считаете, когда все-таки было труднее — тогда или сейчас?
— Сейчас работать стало сложнее. После падения железного занавеса мы стали конкурировать со всем миром, получили доступ к спектаклям, кинофильмам, информационным потокам, идущим к нам без остановки. И конечно, все изменилось — тогда поэты могли собирать стадионы, сейчас не могут, даже очень хорошие. Так же и мы. Тогда один из первых спектаклей "Ленкома" "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", первый в стиле музыкальной драмы, собирал 10-тысячные стадионы. Это было удивительное время — оно никогда не повторится. Вы знаете, я с удовольствием вспоминаю те годы, хотя моя режиссерская карьера висела на волоске много раз. Я был в подвешенном состоянии — вот-вот уволят, вот уже принято решение, и все равно была молодость, доля легкомыслия, решимость. И я не скажу, что очень переживал, когда сам Суслов пришел смотреть спектакль "Разгром" в театре Маяковского и когда по существу решалась моя судьба. Мне все равно было весело — я увидел человека в галошах, который, как ни странно, решил мою судьбу. Здесь, правда, вмешалась вдова Фадеева, которая по вертушке позвонила Суслову и сказала, как это можно запрещать Фадеева? А спектакль был уже готов к запрещению. Суслов пришел посмотреть, несколько раз вынимал носовой платок, вытирал слезы, что было зафиксировано наблюдателями. А потом в конце встал и демонстративно зааплодировал. И через два дня в "Правде" появилась статья об огромном идейно-художественном успехе спектакля "Разгром" в театре имени Маяковского. Это фантастика. Это какое-то невероятное переплетение причинно-следственных связей.
- Тогда цензура, запреты. А сегодня в чем загвоздка?
— К словам наших великих предков, что свобода — тяжкая ноша, я относился легкомысленно. А мы сейчас имеем полную свободу и формируем репертуар так, как хотим. Но оказалось, что сегодня привлечь внимание зрителя и создать спектакль или, как сегодня говорят, театральный проект, который бы заставил и убедил людей, что можно часть своей жизни, эти 2-3 часа, что идет спектакль, посвятить тому, что ты сочинил, не просто. Кроме того, в Москве есть куда пойти — много зрелищ, ресторанов, появился интернет, кинотеатры на разные вкусы и желания. И в этом клубке новых информационных идей привлечь внимание к спектаклю становится все трудней. У нас была такая полоса, сейчас она немного ослабла, когда возникли агрессивные голоса о ненужности репертуарного театра. Как Ленин в свое время сказал, что балет — помещичье искусство, что все академические театры надо заколотить в гроб. Но был Луначарский, и ему удалось что-то сохранить. Он много сделал для сохранения театральной культуры.
- Одно дело просто ставить спектакли, и совсем иное — возглавлять театр — сложнейший коллективный механизм. Как вы с этим справляетесь вот уже 40 лет?
— Я пришел в театр, в который не ходили, и для меня это было мощное подспорье. Я быстро завоевал авторитет после спектаклей «Автоград» и, главным образом, "Тиль" в 1974 году. В театр пошли люди, они поняли, что я человек не случайный. И дальше все наши стадионные показы "Мурьеты" — все это работало на меня.
- Наверняка вам советовали сократить или обновить труппу?
— Да, мне говорили: вот придешь, надо будет сильно почистить коллектив. Я все думал, кого же я должен уволить. Потом пришла мне в голову консервативная, здоровая мысль, что не я придумал систему репертуарного театра и не мне ее разрушать, наносить людям страшные непоправимые удары. Можно постепенно приглашать кого-то в театр и делать то, что ты считаешь нужными, не ломая человеческие судьбы. И артисты воспряли. И вот парень с такими живыми карими глазами Николай Караченцов стал знаменитым артистом. Он, к сожалению, прожил короткую театральную жизнь, но блистательную.
- За последние годы "Ленком" испытал одну потерю за другой — ушли Леонов, Абдулов, Янковский, не играет больше Караченцов — актеры, на которых держался репертуар театра. Как вы справляетесь с этой бедой?
— Во-первых, среди молодого поколения были проведены внимательные изыскания, и вот появился у нас такой явный лидер, как Антон Шагин, есть молодые актрисы, которые пока не сыграли своих главных ролей. И ребята, которые создают в "Небесных странниках" образы летающих объектов. Александр Балуев — счастливое приобретение для нас. Я не могу сказать, что он пришел в театр насовсем — пока только в спектакль "Небесные странники", где играет главную роль Дымова. Превратился в хорошего актера Дмитрий Гизбрехт, который играет Черного монаха, актеры среднего поколения стали мастерами: Сергей Степанченко, Мария Миронова, Виктор Раков, Иван Агапов…
- Каких артистов вы предпочитаете — покладистых или спорщиков? Каких отличаете и за что?
— Я ценю артистов, которые могут держать пространство, у которых сильная нервная система и они обладают особым актерским обаянием. Даже если на сцене 30 или 20 человек, все равно выделяется один-два, за которым следят зрители. Я помню, когда увидел в массовке Андрея Миронова, ощутил, что почему-то смотрю на него, хотя он особенно и не привлекал к себе внимание — он просто излучал особое обаяние. Природные данные — первооснова. Но оказывается, что некоторые качества видоизменяются со временем. Я наблюдал и деградацию, и замечательное постепенное восхождение. До меня в "Ленкоме" при Гиацинтовой какое-то время был Смоктуновский. И она сказала тогда знаменитую фразу: пусть он выходит в массовке на сцену, но только ничего не говорит. Я подозреваю, что не то, чтобы она ничего не понимала в искусстве, просто Смоктуновский тогда был немного другой человек. Он постепенно набирал и сумел потом предъявить свои качества, которые у него были. Или, например, Суханов с замечательным актерским организмом. Он показывался мне в свое время в театре совсем молодым юношей, но я тогда не почувствовал, не разглядел. У меня тоже есть подозрение, что Максим был несколько другим — он очень изменился.
- Марк Анатольевич, вы приверженец репертуарного театра-дома. Это так?
— Театр-дом очень важен, потому что тогда вырастают артисты. Тогда из мальчика, который вертится и крутится в массовке, появляется знаменитый Караченцов, тогда из долговязого студента Абдулова вырастает мастер, который становится любимым всем народом. Дом — пространство, где формируется какая-то энергия и вырастают артисты. Я вот смотрю на антрепризы, которые опираются на одного или двух актеров, но их воспитал театр. Также не могу представить кинематограф без артистов из труппы Товстоногова — Луспекаева, Смоктуновского, Шарко, Юрского, Дорониной, Копеляна… Это был огромный вклад в кинематограф актеров, которые стали мастерами, благодаря такому очагу культуры, где формируются, растут и развиваются творческие индивидуальности.
- Как вы в принципе относитесь к артистам? Не все режиссеры жалуют эту неспокойную братию.
— Я считаю, что главное в спектакле — актер, а режиссер должен оставаться в тени. Именно артисты воплощают твои идеи и замыслы. И именно им должны преподносить цветы, аплодировать, они должны вызывать восторг. Ну, может быть, какие-то понимающие люди и воздадут должное режиссеру, но не больше. Поскольку я сам артист, жена и дочь — тоже актрисы, я люблю это племя, понимаю их некоторые слабости, осознаю, что работают они на своей нервной системе и могут допускать срывы. Надо на это смотреть спокойно и искать какие-то мирные подходы. Вообще в театре много своих болезней закулисных, с которыми надо уметь обращаться, знать их наличие и возможность их появления, беречь этические товарищеские основы, которые должны лежать в основе репертуарного театра-дома.
- Зная ваши спектакли, видно, что для вас огромное значение имела и имеет музыка.
— Конечно, музыка формирует, определяет местопричинные связи, законы музыкальной конструкции. Те картины, которые я снял, прежде всего формировались под воздействием музыки. Сначала она сочинялась, а потом возникал образ фильма "Обыкновенное чудо" или "Тот самый Мюнхгаузен". Эти картины формировались под воздействием музыки — запускалась фонограмма на съемочной площадке, и все артисты понимали, что вот эта музыка не какой-то фон, а основа основ фильма.
- Вы больше обращаетесь к классике. А каково ваше отношение к современной драматургии?
— Раньше я преподавал. И когда студенты брали что-то из прозы или современной драмы — одна страшнее другой, сплошная чернуха — я всегда говорил: ребята, у нас жизнь достаточно тяжелая сейчас в стране, масса негативных эмоций, и если еще как-то пугать и нагнетать ужасы и проводить одни черные идеи в театре, то людям будет очень трудно. Надо все-таки, думаю, поступать, как американцы с "Титаником" в фильме — утонул, но все равно настроение хорошее. Над этим много издевались – хэппи-энд, хэппи-энд, но в этом есть что-то важное. Даже, если в "Гамлете" все друг друга поубивали, все равно должна быть какая-то радость от катарсиса, если он состоялся. Поэтому с современной драматургией сложные взаимоотношения. А что касается молодых режиссеров, то пусть пробуют и так, и сяк. Надо относиться к этому спокойно. Мне кажется, что если говорить об увлечении концептуальными маленькими театрами, студиями, где режиссеры предлагают всяческие ребусы — есть удачные, есть загадочные и радующие только режиссера, есть и бессмысленные — то период острого запроса на них прошел. Такой театр будет занимать какое-то место в театральной жизни. Но захочется чего-то и другого.
- Что бы вы хотели поставить сегодня?
— Я бы хотел поработать с прозой Улицкой — она серьезный литератор. С произведениями Захара Прилепина, если забыть его некоторые публицистические изречения, с которыми я не могу полностью согласиться. Но у него есть прозаические вещи, которые мне кажутся высокой литературой. Есть великий Шекспир, к которому я всю жизнь боюсь обращаться, и эта боязнь у меня сохраняется. Великого англичанина уважаю, но не поставлю, нет, ничего и никогда. Что касается последней по времени работы — "Небесных странников", то я с ужасом писал, дрожа от страха, что Аристофан не сойдется с Чеховым. В спектакле мы нашли формы, которые соединились в какую-то свою единую смысловую ткань. Чехов все-таки разглядел наши мозги, наши отклонения и просил: если чувствуешь себя рабом — хотя бы по капельке, но выдавливай это из себя, расставайся со своими химерами, ложными кумирами, от которых многие с ума сходят.
- Режиссеры, у которых так удачно сложилась судьба на телевидении, редко расстаются с ним. Почему вы вдруг ушли и навсегда?
— Началось новое время, когда ушли многие знакомые кинематографисты, когда останавливался процесс посередине съемочного периода, когда появилось огромное количество спонсоров, которых потом объявляли в федеральный розыск. Это был тяжелый период. Я продолжал такую вялотекущую работу на Мосфильме. Был один сценарий и даже уже приколочена дощечка: режиссер Марк Захаров. Но я понимал, что сценарий, который мне достался, недостаточно интересен, я попытался что-то туда внедрить, потом показал Жванецкому в надежде, что, может быть, он в это дело войдет. Но он мне отсоветовал принципиально, сказав, что не надо портить то впечатление, которое есть, — по этому сценарию видно, что может быть некое разочарование, и он бы на моем месте поостерегся. Я согласился, и от всех предложений из разряда — давайте "Обыкновенное чудо-2", "Мюнхгаузен-4", и чтобы опять были принцессы, короли и структура, которую так замечательно формировал Шварц и Горин, стал уклоняться. Тем более, что стало труднее руководить театром, появилось больше забот, и я как театральный режиссер, каковым себя считаю, несмотря на кинематографические увлечения, оставил это дело и сосредоточился только на театре. Моя любовь театр — раз и навсегда.
- Недавно только обсуждался, а сейчас уже принят закон о переаттестации артистов. Как вы к этому относитесь?
— Вот за этим столом в моем кабинете в присутствии Владимира Владимировича Путина был такой разговор, и кто-то сказал: "Давайте решим, какие в России хорошие и какие плохие театры". Я возразил, сказав, что этого в принципе делать нельзя, как нельзя в правом столбике написать, что это хорошие художники, а в левом — плохие. Это невозможно, потому что все находится в динамике, в развитии. И потом, кто может быть судьей. Сколько раз общество ошибалось с импрессионистами, с Малевичем, Кандинским. Надо давать возможность развиваться разным направлениям и поискам. Что касается театра, то контрактная система, конечно, стучится в дверь. Я знаю, что немцы и финны очень помогают театрам. У театра есть бюджет — зарабатывайте 30%, а вот 70% будет добавлять государство или находится меценат, который берет на себя обязательство помощи, но не разовой, а постоянной. Репертуарный театр — и это уже доказано мировой практикой — существовать без экономической поддержки не может.
- И что-власть как-то реагирует и собирается предпринимать меры?
— Власть в некоторой нерешительности, ведь для этого надо менять базовое законодательство и многочисленные правовые нормы. Но надо понимать, что Россия это не Польша — если тебе в Кракове не понравилось, поезжай в Варшаву, а если и там не пошло, отправляйся в Лодзи. Рядышком города — сел на машину или автобус и играешь. В России, если у тебя в Благовещенске не получилось, то в Москве, куда еще неизвестно, как и когда доберешься, не факт, что тебя встретят с распростертыми объятиями. Есть огромная инерция огромной страны со своими традициями, своими химерами, своим менталитетом, где много намешано вещей достаточно спорных, которые могут помешать театральному развитию. Так что мы находимся в очень сложной ситуации. Понятно, что должна постепенно внедряться контрактная система, но именно постепенно и осторожно, а не сразу. Потому что связано это с живыми людьми, отдавшими театру всю жизнь.
- Как вы относитесь к активному процессу превращения некоторых репертуарных театров в так называемые культурные центры?
— Мы всегда ни в чем меры не знаем — это наша такая российская привычка. Мы можем, например, построить в Сколково какой-то один дом, а потом охладеть к этой идее. Такая опасность есть, она у нас в характере, очевидно. Я все- таки думаю, что здравый смысл восторжествует, и превращать каждый театр в какой-то развлекательный центр с танцами, бильярдом, шампанским и библиотекой, вероятно, не надо. Театр должен оставаться театром. Я понимаю, что, возможно, это консерватизм, но мне даже жалко, что, например, во МХАТе суфлерскую будку снесли, но, боюсь, что это уже старческое ворчание. Театр — самое древнее искусство, ему много раз предрекали кончину, и даже такие умные люди как Михаил Ромм после своих успешных фильмов говорил, что театр уходит. Нет, это такое коллективное единение, коллективный гипноз, энергетика, радость, соучастие публики вместе с артистами, когда энергия идет в зрительный зал, в зале аккумулируется, возрастает и возвращается на сцену. Театр — место, где незнакомые люди вдруг начинают примерно одинаково и радостно существовать. Я думаю, что это никогда не исчезнет, хотя очертания театра могут принимать самые причудливые формы, и очень трудно сейчас предсказать, что будет дальше, через 100 лет. Но единственное, что несомненно — театр жив и так будет всегда.