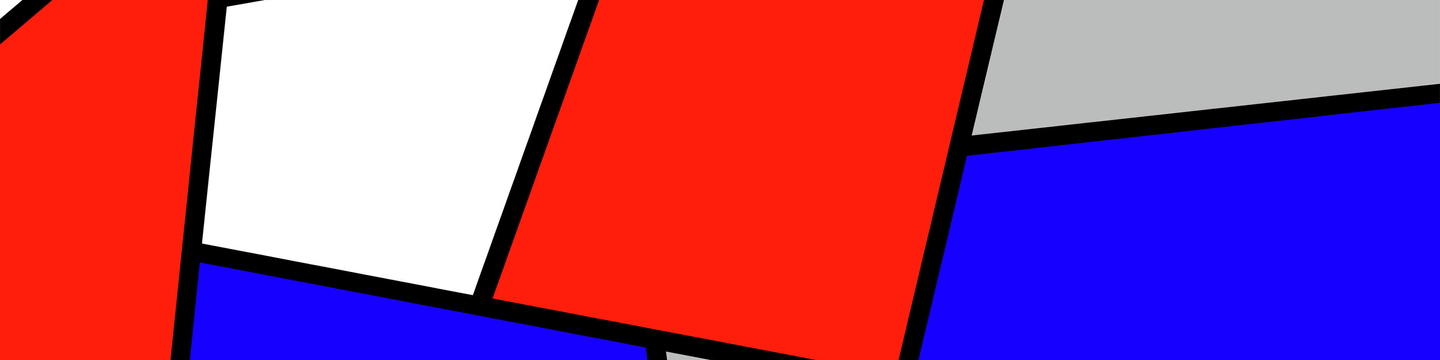Андрей Золотов, профессор, заслуженный деятель искусств России специально для РИА Новости.
Восьмидесятилетие Льва Михайлова – знак для театрального мира России и, конечно, для Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, который он возглавлял в течение 20 лет, составивших эпоху в истории театра. Я не случайно и, думаю, с основанием, выбираю слово «эпоха». Это была золотая пора музыкального театра в России советского периода во второй половине XX столетия. Музыкальный театр возрождался как целостное явление усилиями многих деятельных талантов, усилиями Бориса Покровского и режиссеров более молодого поколения. Здесь среди первых надо назвать Михайлова…
Я познакомился с Львом Дмитриевичем еще до того, как он пришел в театр Станиславского и Немировича-Данченко. Я видел его спектакли в Новосибирске, где он ярко работал в театре оперы и балета. Затем был длительный период глубокой, содержательно насыщенной работы в Москве.
Постановки Михайлова отличались равновесием музыкального и театрального чувства, целостностью подхода к спектаклю. Правомерно и знаменательно, что Михайлов стал руководителем театра, носящего имя Станиславского и Немировича-Данченко. Я сознательно не употребляю слова «наследник», потому что это всегда звучит неубедительно, когда мы говорим о таком ярком и своеобразном человеке. Точнее, это – последование, духовное родство, сродство душ.
Михайлов, будучи самостоятельным художником, не противопоставлял себя Станиславскому, не дистанцировался от него, как делали это – более или менее даровито - следующие поколения режиссеров. Целый ряд сегодняшних спектаклей построены так, чтобы утвердиться за счет отрицания всего, что было до них, это становится сверхзадачей режиссера. У Михайлова спектакли живут очень естественной, самостоятельной жизнью. Он понимал, что до него сделано очень многое, и задача, которая стоит перед ним, настолько трудна, что все привходящее - вроде удовлетворения собственных амбиций – не имеет никакого значения.
Порой говорят о некоторой искусственности соединения имен Станиславского и Немировича-Данченко, поскольку каждый из них был достаточно отдельным человеком в своем подходе к музыкальному театру. История соединила их имена административным путем, но в Михайлове это нашло свое глубинное основание. Два крыла театрального реализма жили в единстве его личности: линия Станиславского и линия Немировича-Данченко, глубинный психологизм и содержательная условность были присущи его спектаклям. Он отстаивал интересы и устои не просто некой оперы, но именно музыкального театра. Как и его великий немецкий современник Вальтер Фельзенштейн, Михайлов был убежден, что пение в театре не условность, а рождается из внутреннего состояния актера. Его спектакли были очень органичными. Вы приходили и погружались в них, верили в то, что происходит на сцене. При этом всегда можно было оценить и режиссерскую идею, и режиссерскую выдумку. Даже его просчеты, когда они случались, были, что называется, «на верном пути». Наверное, «Июльское воскресенье» Владимира Рубина не стал большой удачей Михайлова, но это была существенная работа, важный для театра эксперимент. Это была опера-оратория, и Михайлов постарался представить на сцене эту ораториальность, открытую условность. Возможно, элемент условности был недостаточно логически оправдан, но естественно вытекал из природы сочинения. И этот, быть может, не самый лучший михайловский спектакль стал важным этапом поиска и дал жизнь замечательной музыке, которая остается одним из лучших произведений о войне.
Я живо помню его постановку «Крутнявы» словацкого композитора Эугена Сухоня. Мне довелось писать о ней в «Известиях», где я работал. Михайлов чутко вслушивался в музыку близкого словацкого народа. Музыка была для него средоточием жизни человеческого духа, он был очень музыкален в ощущении подлинности человеческой драмы. Бытовая драма может быть страшна сама по себе, но, будучи выражена в музыке, она становится памятником человеческим переживаниям.
Наконец, «Катерина Измайлова» - спектакль-эпоха. Это была первая постановка второй редакции оперы, ее реабилитация. Обратившись к этому произведению, Михайлов взял на себя большую ответственность. Это опера трудной судьбы, не только политической – она трудна и чисто художественно. Женщину-убийцу сделать героиней, чуть ли не Катериной из «Грозы» Островского… Шостакович поставил перед собой практически неразрешимую задачу и рукой гениального музыканта написал великолепную музыку. Но чтобы это поставить, нужно было обладать целостностью натуры, чтобы посмотреть на это противоречие характеров как на составляющую человеческой жизни.
Это был шедевр. Спектакль был убедителен, спокоен. Вторая редакция оперы – вовсе не компромисс запуганного художника, как это пытаются порой представить. Это произведение, написанное зрелым художником. Оно лишено многих крайностей, свойственных юности. Премьера была событием в музыкальной жизни и в жизни самого Шостаковича.
У Михайлова было ощущение жизни сцены, в его постановках всегда живое движение. Можно сделать спектакль, который будет хорошо придуман, хорошо нарисован, хорошо спет, и для терминологической критики он будет современен – спектакли Михайлова отличались единством музыкального, театрального, художественного переживания. Эта гармония была сущностью личности Михайлова. Его спектакли были легки – для меня, для зрителя. Для него, думаю, это был трудный хлеб.
Михайлов не был одинок. При нем в театре активно работали другие режиссеры: Павел Златогоров, Михаил Мордвинов, Михаил Дотлибов, Николай Кузнецов, Владимир Канделаки, Надежда Кемарская. Поставил оперу даже балетмейстер Чичинадзе. Исторической заслугой Михайлова было приглашение замечательного немецкого режиссера Вальтера Фельзенштейна на постановку «Кармен». Это было событие огромной художественной важности. Надо сказать, что в этот момент Михайлов проявил редкую деликатность. Подготовив все для приезда Фельзенштейна, он сам на некоторое время исчез из театра – взял себе постановку в другом городе, не желая ставить немецкого коллегу в сложное положение двоевластия.
У Михайлова никогда не было стремления затмить дирижера, выдвинуться на первый план. Вопроса «кто главнее в театре?» не возникало. Дирижер ощущал себя хозяином спектакля наряду с режиссером. С Михайловым сотрудничали замечательные дирижеры: Геннадий Проваторов, Дмитрий Китаенко, Камал Абдуллаев, Георгий Жемчужин, Владимир Кожухарь. И в его постановках они раскрывались максимально выразительно. Для каждого из них работа с Михайловым становилась творческой кульминацией. Я также никогда не слышал, чтобы Лев Дмитриевич кого-то ругал, осуждал, тем самым возвышая себя.
Это был интересный собеседник, умный, начитанный. Самодостаточная личность, настоящий режиссер, настоящий лидер театра. Человек подвижный, элегантный, цельный, динамичный. Динамизм был и в его спектаклях, и в его фигуре – высокой, гибкой. Михайлов был настоящим человеком театра, он жил в нем. Театр всегда был у Михайлова на вытянутой руке перед ним.
Его режиссерский стиль был прекрасен высокой простотой. Прочтение автора было его главной целью. Вот почему Лев Михайлов остался в благодарной памяти зрителей как создатель прекрасных спектаклей, человек, который любил театр, тонко его чувствовал и был благороден в своей жизни и профессии.