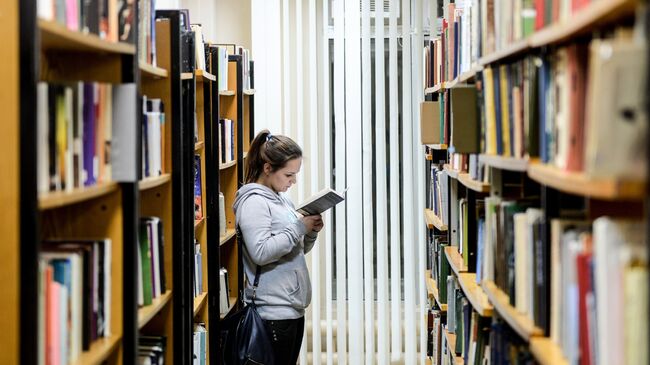Павел Родькин, кандидат искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
Отсутствие "образа будущего", дауншифтерство постоянно присутствуют в риторике отечественных глобалистов, западников и неолибералов на самых разных уровнях.
Проблема будущего, действительно является чрезвычайно важной, ведь как только советское общество потеряло веру в будущее, демонтажу подверглось настоящее, разрушился и сам СССР.
Стоит ли современной России и теперь бросаться за очередными вожделенными виртуальными, но гораздо более привлекательными для общества "фантиками"? Какова реальная цена новой сделки, а главное, что это за будущее?
В их будущем нет места нашему прошлому
Сила мифа о тотальном отставании России в сфере научно-технического прогресса, основе будущего для любого развитого общества, — в системном удалении и забвении всех достижений прошлого. Общество, лишенное точек опоры, не может быть самостоятельным субъектом ни конструирования, ни планирования собственной истории.
Чтобы войти в светлое будущее, которое местами, как уверяют, уже наступило на Западе, от России требуют решительного отказа от собственного прошлого. Политика забвения носит самые разные формы: от стирания надписи "СССР" на шлеме Юрия Гагарина или подбора фотографий без этой надписи на рекламе по случаю Дня космонавтики до уничтожения архивов.
Провал 1990-х оказался настолько катастрофическим, а политика деиндустриализации и деинтеллектуализации настолько последовательной, что страна лишилась целых собственных отраслей производства и экономики. Что же предлагается делать идеологам нового, идеологически правильного будущего теперь?
Билет в будущее оплачивается признанием собственной цивилизационной неполноценности и заполнением пустоты глобалистскими стандартами жизни и игрушками общества потребления. Парадоксально, но бренд будущего оказывается главным идеологическим могильщиком реального прогресса.
Монополия на будущее как инструмент глобальной конкуренции
Принципиальной позицией российских глобалистов, широко представленных в политическом классе, является отказ собственного проекта будущего и научно-технической и гуманитарной базы его реализации. Не самый худший вариант, если при этом за образец берется реальная Силиконовая долина, а не пиар-проекты условного Илона Маска, содержательно и концептуально вторичные и устарелые по сравнению с наработками и возможностями советских ученых и конструкторов.
Не так страшны изменения сознания массового потребителя в этом направлении; но аналогичные изменения в сознании элиты самым непосредственным образом угрожает будущему развитию общества. Если, конечно, речь не идет о ее сознательном цивилизационном выборе.
Современный империализм в форме глобализма — это монополия на будущее, в которое попадут далеко не все, и только в выравненном под жесткую стандартизацию виде.
Согласно базовой метафоре Томаса Фридмана, мир в эпоху третьей стадии глобализации стал плоским (то есть открывающим возможность индивидуумам и небольшим группам людей сотрудничать и конкурировать на всем пространстве мирового рынка — Ред.). Вот только это уплощение с самого начала не происходит "естественным" и добровольным путем.
Пожалуй, главной инновацией плоского мира является технология манипуляции массовым сознанием: деиндустриализация навязывается именно как прогрессивный образ будущего, в котором все традиционные формы суверенности должны быть заменены технологиями управления. Отказ от базовых форм развития традиционного общества, таким образом, объявляется не поражением, а шагом вперед.
Такое внимание будущему не удивительно, для бизнеса будущее является ходовым товаром, который хорошо продается со времени подъема и энтузиазма 1960-70-х годов.
Для элиты западного сверхобщества будущее стало оружием в борьбе с альтернативными ветвями социальной эволюции человечества: со времени разрушения СССР однополярной стала не только геополитика, но и само представление о будущем.
Наше постчеловеческое будущее?
Отсутствие образа будущего (и будущего как такового), которым так настойчиво попрекается российское общество, является элементом давления и наказания за попытку вернуться в реальную историю, которую Россия совершила в 2014 году. Будущее — чрезвычайно мощный и притягательный образ, по силе воздействия превосходящий всю политическую конъюнктуру. Тем серьезнее необходимо относиться к призывам некритического следования всем новым реальностям.
Это, действительно, совершенно новый мир, в котором нет и не предусмотрено человека как субъекта истории. Это мир, где человек полностью лишен своей социальной, культурной, религиозной идентичности, и может быть лишен человеческого образа. Это мир будущего, находящегося под тотальным сетевым управлением, но при этом категорически отрицающий и не сознающий свою антиутопическую и инфернальную сущность.
И здесь возникает, пожалуй, еще не заданный и идеологически не осмысленный вопрос: а нужно ли нам такое будущее? Может быть, наше спасение как самостоятельной и уникальной цивилизации и заключается в том, чтобы мы от него отказались?
Но для того, чтобы сопротивляться наступающему будущему, проект которого спланирован и реализуется, нужна научно-техническая и интеллектуальная база. В противном случае о том, что Россия не вписалась в будущее, будут говорить с тем же холодным равнодушием, как когда-то говорилось про миллионы людей, не вписавшихся в рынок.